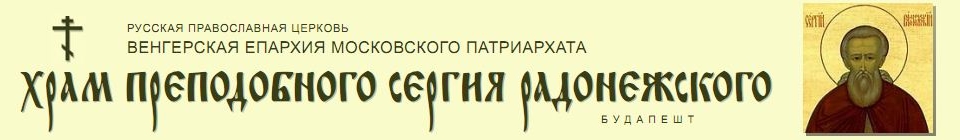ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА
ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ
РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
ПЛАН ПРОЕЗДА
О ПРИХОДЕ
СЛОВО НАСТОЯТЕЛЯ
СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ
ЖИЗНЬ В ЦЕРКВИ
ХРИСТИАНСТВО
В ВЕНГРИИ
ПРАВОЛСЛАВНАЯ
МИССИЯ В МИРЕ
НАШЕ ПРОШЛОЕ
И НАСТОЯЩЕЕ
МУЧЕНИКИ
И ИСПОВЕДНИКИ
ХРИСТИАНСКИЕ ПРАВЕДНИКИ
ЦЕРКОВЬ
И ГОСУДАРСТВО
СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
ВОСПОМИНАНИЯ
И ДНЕВНИКИ
ВСЕХ ИХ СОЗДАЛ БОГ
СОВЕТЫ ВРАЧА
БИБЛИОТЕКА
СТРАНИЦА РЕГЕНТА
ФОТОГАЛЕРЕИ
ДУХОВЕНСТВО ХРАМА
НАШИ РЕКВИЗИТЫ
КОНТАКТЫ
ССЫЛКИ
Задачник на XXI век для русских православных
Текст филолога и библеиста Андрея Десницкого - приглашение к дискуссии на страницах "Правмира". Редакция будет рада откликам, обсуждению и полемике.
Конфессия, церковь и культура
Я крестился в Русской православной церкви почти тридцать лет назад, весной 1986 года, всего за пару лет до того, как в СССР стало можно и стало модно ходить в церковь. Сегодня, спустя три десятилетия, многие из тех, кто приходил в РПЦ еще до падения советской власти и в ранние девяностые, испытывают два сильных чувства: недоумение и разочарование. Да, это та самая конфессия, в которую мы приходили, сегодня вещает со всех экранов и устраивает многотысячные митинги-молебны на площадях.
Но мы твердо помним, что приходили мы не в такую церковь и приходили не за этим. Эта церковь никуда не делась – по-прежнему с нами наши учителя и наши друзья. Правда, многие из них уже не в этом мире. Но по-прежнему посреди нас Христос: и есть, и будет. Только слишком уж много всего остального – отвлекающего и постороннего.
Кто-то говорит, что церковь – часть общества и разделяет все его черты, болеет всеми его болезнями. Изменится наше общество в целом – изменится и церковь. Это совершенно верно, но если никто не будет ничего менять вокруг себя, то эти прекрасные времена никогда и не настанут.
Кто-то говорит, что мы тогда по закоренелой привычке к диссидентству стремились в церковь, которая боролась с властью. Только ведь она с ней совершенно не боролась в восьмидесятые и уж тем более в ранние девяностые: она существовала параллельно, выстраивала свой собственный мир с лучшими и более глубокими смыслами, чем надоевшая трескотня коммунистической идеологии или циничная жадность первоначального накопления капитала.
Мы шли к этим смыслам, к братскому общению, к вечной жизни – а теперь слышим вокруг себя надоевшую трескотню о православном «русском мире» и циничную жадность государственного капитализма под православными лозунгами.
Кто-то говорит, что очарование юности проходит само собой, что в восьмидесятые, когда церковь была задавлена советским режимом, нам просто было удобно списывать все ее недостатки на несвободу ее положения. И пришедшая свобода выявила недостатки еще прежде достоинств – в девяностые в провинциальных храмах в основном продавали не творения Отцов и не проповеди митрополита Антония, а мутные брошюрки о скором конце света, о борьбе с еретиками, евреями и ИНН. Значит, именно таким и было русское православие, просто мы этого не видели прежде.
А кто-то говорит, что мы просто обманулись, что русское православие давно мертво, оно стало государственной идеологией, а подлинное христианство нужно искать в других сообществах. Но наш опыт общения со множеством настоящих христиан, принадлежащих к РПЦ, подсказывает нам, что это неправда.
Православие, как и любая другая христианская традиция, знало разные времена, а искушения властью, богатством и демонстративным успехом достаточно сильны и пожинают богатую жатву. Нет на земле такого сообщества, к которому за многие века не прилипло бы ничего лишнего – и церковь тут не исключение.
Только все эти объяснения совершенно не отвечают на вопрос «что же нам теперь делать». Всегда, конечно, остается частная жизнь, узкий круг людей, которым доверяешь… Но не все готовы лишь этим и ограничиться.
Я далек от мысли, что окончательные ответы на эти недоумения я могу предложить здесь и сейчас, но имеет смысл попробовать поточнее сформулировать сами вопросы. Любые ответы на них, вероятно, будут личными и неоднозначными. Разные люди будут приходить к разным решениям, и это нормально. Ненормально почти полное отсутствие диалога по сущностным проблемам.
СМИ долго и подробно обсуждают скандалы, официальные источники транслируют, как в советские времена, официальные хроники и бесконечные панегирики начальству, а вольнодумцы на кухнях за рюмкой чая обсуждают, как всё прогнило – тоже вполне в советском стиле. Всё примерно так же, как и тридцать лет назад – всё, кроме собственно церковной жизни.
Что случилось – на этот вопрос (те, кто видит эту проблему) ответим примерно одинаково. За четверть века «церковного возрождения», как назывался у нас начатый Горбачевым процесс реабилитации церкви и ее освобождения от жесткого государственного контроля, мы слишком увлеклись внешними формами. Мы строили кирпичные стены, а надо было создавать институты. Мы проводили молебны, а надо было заниматься просвещением. Мы переиздавали старые книги, а надо было отвечать на новые вызовы времени. Мы убеждали государство, какие мы нужные и полезные для него, а надо было выстраивать диалог с обществом. Мы приобретали власть, а надо бы – доверие. Мы собирали себе сокровища на земле и собрали довольно много.
Сегодня наша конфессия намного влиятельней, чем мы могли себе представить… а наша церковь растеряннее, чем тридцать лет назад, когда мы крестились украдкой и переписывали Евангелие от руки. Тогда, по крайней мере, мы ощущали внутреннюю свободу и цельность, пусть даже это и был отчасти юношеский максимализм. Сегодня при всём внешнем лоске и респектабельности нарастает ощущение внутренней пустоты и тревожности на всех уровнях и призрак 1917 года снова бродит по стране…
Но почему так случилось, и что сделать, чтобы выйти из порочного круга? Об этом можно рассуждать бесконечно, и все объяснения окажутся приблизительными. Но я хочу привести сейчас только одну длинную цитату из протоиерея Александра Шмемана, из его бесед на радио «Свобода» о русской культуре[1]:
«Древней Руси не пришлось переживать долгого, сложного и часто очень мучительного процесса согласования культуры и христианства, христианизации эллинизма и эллинизации христианства, – процесса, которым отмечены пять-шесть веков византийской истории. У нее еще почти не было истории. Но это значит, что византийское христианство было воспринято Русью одновременно и как вера, и как культура и что, таким образом, присущий христианской вере максимализм оказался практически и одной из главных основ новой культуры.
Принимая византийское христианство, Русь не заинтересовалась ни Платоном, ни Аристотелем, ни всей традицией эллинизма, которые и для христианской Византии оставались живой и жизненной реальностью. Византийской “культуре” древняя Русь не отдала ни частицы своей души, внимания, интереса. Историки подчеркивают, что, несмотря на обилие церковных и политических связей с Константинополем, Русь всей душой потянулась не к нему, а к Иерусалиму и Афону. К Иерусалиму – как месту реальной истории Христа, Его уничижения и страдания, и к Афону, монашеской горе, как к месту реального христианского подвига. Больше, чем все тонкости византийской догмы и всё великолепие византийского церковно-культурного мира, самосознание Руси пронзил образ евангельского, распятого и уничиженного Христа, а также образ героя-монаха, подвижника. Русское христианство удивительным образом началось без школы и без школьной традиции, а русская культура как-то сразу оказалась сосредоточенной в храме и богослужении.
Конечно, начала создаваться и русская христианская культура. Но одно дело, когда храм строится в центре древнего, отягощенного культурой греческого города, в котором одной из задач храма оказывается соединение культуры с христианством, “христианизация” ее, – и совсем другое, когда этот же храм оказывается всем – и верой, и культурой. А именно так случилось на Руси. Ее культура, подлинная культура, оказалась сосредоточенной в храме, в котором ее сутью стало, так сказать, “самообличение”, призыв к максимализму, требующему отказа от “мира”. Всё подлинное, прекрасное и великое в древнерусской культуре есть одновременно и призыв уйти, отказаться, отрешиться. Если же не уйти, то отдать свои силы построению некоего последнего, совершенного, всецело устремленного к небу и небом живущего “царства”, в котором всё, без остатка, подчинено “единому на потребу”.
Так максимализм стал судьбой русской культуры и русского культурного самосознания. Культура как “мера”, культура как “граница” и “форма” – меньше всего вдохновляла его и в прошлом, и в последующее время, когда непосредственная связь между христианством и культурой оказалась оборванной. В каком-то смысле можно даже сказать, что у нас в России не возникло, не образовалось самого понятия культуры как совокупности знаний, ценностей, памятников, идей, совокупности, передаваемой из поколения в поколение для сохранения и преумножения, а одновременно и как мерила творчества. Потому что христианская культура, нашедшая свое выражение в храме, в богослужении и в быте, по самой своей природе оказалась чуждой идее развития и творчества, стала сакральной и статической, исключающей сомнения и искания, – никакой же другой культуры у нас больше не было.
И поэтому всякое творчество, всякое искание, всякая перемена ощущались как бунт, как почти кощунство и анархия, и, таким образом, суть культуры, как творческого преемства, не создалась».
Конечно, здесь отец Александр прибегает к очень широким обобщениям, которые нуждаются в уточнениях и поправках буквально по каждому пункту. К этому необходимо добавить, что преодоление этого разрыва между верой и культурой было одной из основных тем для классической русской литературы и в особенности – религиозной философии, и они добились очень многого – к сожалению, этого не хватило для предотвращения катастрофы 1917 года. Да и мы, приходя в церковь в восьмидесятые и ранние девяностые, стремились именно к этому синтезу, интуитивно чувствуя, что классическая русская культура сохраняется скорее в церкви, нежели в парткоме, и эта культура по природе своей христианская, даже когда ее носители никак не связаны с церковной жизнью.
Но отец Александр, мне кажется, очень точно обозначил основную проблему и определил базовый диагноз, который воспроизводится в том или ином виде в разных поколениях. Но поставить такой диагноз еще не значит ответить на любимые русские вопросы «что делать?» и, тем паче, «кто виноват?» Да и сам диагноз нуждается в уточнении и детализации по множеству позиций.
Школьник и карта звездного неба
У Достоевского есть фраза, которую постоянно цитируют (в том числе и отец Александр в той своей беседе): «Покажите вы русскому школьнику карту звездного неба, о которой он до тех пор не имел никакого понятия, и он завтра же возвратит вам эту карту исправленною». Но мало кто обращает внимание на следующий факт: это не мнение самого писателя, а уничижительная характеристика, данная русским школьникам неким иностранцем, притом в пересказе Алеши Карамазова.
И вот какой вывод у Достоевского тут же делает из этих слов настоящий русский школьник Коля: «Ах, да ведь это совершенно верно! – захохотал вдруг Коля, – верниссимо, точь-в-точь! Браво, немец! Однако ж чухна не рассмотрел и хорошей стороны, а, как вы думаете? Самомнение – это пусть, это от молодости, это исправится, если только надо, чтоб это исправилось, но зато и независимый дух, с самого чуть не детства, зато смелость мысли и убеждения, а не дух ихнего колбаснического раболепства пред авторитетами».
Это очень русский диалог: Россия смотрится в Запад как в зеркало, пусть и несколько кривое, выставляющее ее в карикатурном свете. Глядясь в него, она одновременно видит себя глазами Запада – и понимает свои отличия от Запада. Немыслимо представить себе, чтобы вместо «немца» тут был бы «китаец» или «индус», их мнение о России – всего лишь некая забавная и, может быть, в чем-то поучительная экзотика, но никакое не «верниссимо».
Россия ощущает себя как некую очень важную часть Запада и одновременно как не-Запад, но она не согласна быть «недо-Западом», «почти Западом». Проще говоря: да, мы живем в той же системе координат, что и «немец» (о китайце такого не скажешь), но живем всё-таки по-своему. И если ученый «немец» смотрит на русского школьника со снисходительной улыбкой, то и у школьника найдется повод ощутить себя важнее и отважнее.
Так что же насчет исправленной карты звездного неба? Это, как говорил Шмеман, прямое продолжение той же самой тяги к абсолютной и окончательной правоте. А ведь русские школьники после XX века – они еще и советские комсомольцы. Они привыкли думать, что на каждый сущностный вопрос есть только один правильный ответ, а любое действие либо всем запрещено, либо обязательно для всех.
К сожалению, избавиться от особенностей советского мышления далеко не так просто, как сменить серп и молот на восьмиконечный крест… Да и не было ли само советское мышление еще одним порождением этой русской тяги к абсолюту? Впрочем, мы сейчас не об этом.
Русские православные констатируют глубокий церковный кризис. Кстати, говоря «русские», я подразумеваю всех людей, так или иначе причастных к русской культуре и церковной традиции, вне зависимости от страны проживания, национальности и родного языка. Многое из сказанного здесь могут отнести к себе православные из разных народов и стран – но пусть они скажут о себе сами.
Так вот, признавая наличие этого кризиса, русские православные рвутся «исправлять карту звездного неба», выписывать окончательные рецепты прежде точной постановки диагноза. А это не всегда продуктивно.
Например, за минувшую четверть века мы много раз говорили о «литургическом возрождении» – о том, что литургия должна стать центром христианской жизни, что полноценное участие в ней необходимо для каждого мирянина. Верно ли это? Безусловно, верно.
В этом отношении очень многое изменилось у нас за последние десятилетия: всё больше православных, для которых стало нормой постоянное причащение, а восприятие литургии как некоего необязательного пролога к водосвятным молебнам, столь привычное для провинциальных приходов еще несколько десятилетий назад, выглядит сегодня дикостью.
Но если принять частое и полноценное участие мирян в литургии за единственный рецепт от всех духовных болезней, результат окажется далеким от совершенства. Сегодня всё чаще можно услышать в ответ на любое недоумение по поводу церковной жизни: «Зато в церкви я принимаю плоть и кровь Христа, пока у меня есть эта возможность, остальное меня не беспокоит». В результате человек начинает приходить в храм за причастием, как в аптеку за лекарством (такое сравнение я услышал от одного мирянина), а всё остальное его в принципе не интересует.
На практике «литургическое возрождение» оборачивается неким «евхаристическим индивидуализмом», который, конечно же, тоже очень далек от подлинно христианского идеала.
Или другой пример: много раз мне доводилось слышать, что в церкви следует возрождать общинное начало. Верно ли это? Да, безусловно. Но это не значит, что общинный строй жизни сам по себе решит все возникающие проблемы. Если общину составляют люди, не склонные к просвещению и критическому мышлению, если в ней начинает безраздельно царить авторитет узкого круга лиц, на выходе мы получаем не общину, а секту, нечто гораздо худшее, чем вялотекущее требоисполнительство.
Проводя аналогию с медициной, никакую болезнь невозможно вылечить у каждого пациента одной-единственной таблеткой, и нет ни одной таблетки без побочных действий, разве что кроме плацебо.
В поиске правильных вопросов
На какие же вызовы и вопросы нам предстоит ответить в первую очередь? Большинство этих проблем так или иначе касаются соотношения личного и общественного (или общинного) в христианстве. Православная традиция достаточно консервативна, она обрела свои формы в сословном и феодальном средневековом обществе, которое во многом сохранялось в России вплоть до революции 1917 года.
Тут достаточно вспомнить, что крепостное право было отменено всего лишь за полвека до этой революции, а возможность свободно выйти из общины была дана крестьянам лишь за десятилетие до нее.
В советские времена, когда церковь была маленькой и незаметной, а государство – огромным и враждебным, многие из нас надеялись, что настанут лучшие времена и можно будет погрузиться в ту самую дореволюционную жизнь, с которой связаны были лучшие для русского православия времена. Это не получилось – вернее, получилась скорее имитация. Иначе и не могло быть: современное российское общество просто невозможно встроить в средневековую модель. Но возможна ли иная модель, и если да, то какая?
Может быть, размышления об этом помогут преодолеть своеобразную раздвоенность сознания, когда любой разговор о «Церкви с большой буквы» превращается в абстрактные рассуждения о прекрасном, а любые нестроения в «церкви с маленькой буквы» объявляются случайными чертами, вызванными чьим-то личным несовершенством.
Но если некоторые проблемы (например, стремление поставить церковную жизнь в зависимость от государства) повторяются в разные исторические эпохи и с разными людьми, они системны. Недостаточно сказать, что при неких идеальных иерархах и в неких идеальных условиях они сами собой отпадут – таких иерархов и условий просто не существует, значит, проблемы будут воспроизводиться дальше.
Вспоминается анекдот про ученых, которые вывели модель движения сферического коня в вакууме – так и богословы порой выводят модель существования сферической церкви в вакууме, но эта прекрасная модель не имеет никакого отношения к реальности.
Итак, перечислю здесь лишь некоторые вопросы, и надеюсь, что поиски возможных ответов на них у нас только начинаются.
1. Клерикальность и общинность
Церковь в современной России обычно понимается как церковная организация, состоящая из клириков и приближенных к ним лиц. При таком подходе церковь фактически становится равна церковной организации, и что хорошо или плохо для организации – то хорошо или плохо для церкви, угодно или неугодно Богу.
Но такой клерикализм плохо совпадает с ожиданиями постиндустриального и постмодернистского общества, он вызывает серьезное раздражение – и любые недостатки организации, в точном соответствии с этим принципом, воспринимаются как пороки, изначально и органически присущие церкви в целом.
Но как иначе может быть организована поместная церковь? И если создаются те самые общины, которые могли бы стать альтернативой клерикализации, они нередко наследуют тот же признак: что хорошо для нашей общины, то хорошо для церкви и угодно Богу. Различие между человеческими учреждениями и Творцом Вселенной стремительно размывается.
Когда-то община включала в себя людей, живущих по соседству, они встречались в церкви так же просто и естественно, как на улице, в поле или в магазине. Сегодня это совсем не так: общество в России атомизировано, соседи общаются крайне мало, а любые «кружки по интересам», включая церковные общины, образуются не по территориальному признаку. Но это значит, что людей в них связывает лишь общее понимание этого интереса, и при любом несовпадении взглядов и действий община рискует распасться.
В наше время появилась еще одна реальность: виртуализация христианского общения: в социальных сетях люди нередко общаются интенсивнее и глубже, чем в реальной жизни, и христиане – не исключение. Может ли существовать община людей, живущих в разных городах и даже на разных континентах? И, с другой стороны, может ли существовать община людей, живущих в одном подъезде многоэтажного дома? А может быть, общинность как форма жизни традиционного общества просто уходит в прошлое и ее сменяет нечто иное – но что именно, и как к этому относиться христианам?
2. Публичное и частное
Религия во всех (пост)христианских странах имеет тенденцию уходить в область частной жизни – в России, напротив, в последнее время наметилось движение к максимальному «воцерковлению» публичной сферы. На практике это означает расширение влияния и всё более заметное присутствие в публичном пространстве – нередко за счет независимости и самостоятельности церковных структур, которые рискуют оказаться придатком к структурам государственным. Такое православие всё больше становится политическим и идеологическим – и всё меньше христианским.
С другой стороны, в России, как и в других странах, существует огромное количество «номинально православных» людей, которые ограничиваются эпизодическим «потреблением религиозных услуг» и не желают ничего большего. Эти люди – самый выгодный и удобный ресурс для «политического православия»: они составляют формальное большинство, но им ничего не нужно, кроме формального и достаточно редкого исполнения обрядов, а прежде всего – православной самоидентификации.
Нам очень легко будет всех их обличить и заклеймить – дескать, мы-то сохранили память о подлинном, высоком христианстве… Но если даже это так, почему мы не смогли вынести это сокровище за пределы узкого круга ценителей? Разве мало было проповедей, лекций, статей, книг, журналов, выставок, фильмов и радиопередач – отчего же так мало удалось объяснить и показать? Отчего мы сегодня снова замыкаемся в уютных диссидентских кухнях, чтобы размышлять о том, как неправильно всё устроено за их пределами?
Массовая культура в России сейчас в основном светская, с очень небольшим и поверхностным налетом христианской символики и обрядовости. Как показали события последних лет, в поисках собственной идентичности и глубинных смыслов наш современник обращается не к Евангелию и не к житиям, а к причудливой смеси из идеализированных советских и имперских сюжетов. Можем ли мы предложить ему что-то иное? Можем ли мы сделать христианство публичным, не впадая ни в попсовость, ни в демагогию?
Или, может быть, правы (по крайней мере для себя) те, кто говорит: сегодня никакое публичное христианство не нужно, достаточно частной жизни во Христе?
3. Традиции и новаторство
Православная церковь предельно консервативна, но подлинный консерватизм отличается от мертвящего повторения застывших форм – а ведь именно это мы нередко видим на практике. Новые богослужебные тексты пишутся по шаблону, несколько лучше положение с иконами, но в целом любое творчество понимается как нечто опасное и подозрительное.
Характерный пример – бесконечный спор о том, возможно ли богослужение на литературном русском языке или только церковнославянском. Все аргументы давно высказаны и бесконечно повторяются, но принять решение о том, что русский язык может пользоваться такими же правами в православной традиции, как английский или якутский, оказывается решительно невозможным.
Впрочем, перевод богослужения на русский язык не столько решит, сколько заострит эту проблему. Станет очевидно, что неподготовленному человеку непонятны не только церковнославянский аорист или дательный самостоятельный, но и византийская образность и богословские термины, заимствованные из классической греческой философии.
Так действительно ли христианство целиком и полностью состоялось однажды в Византии и с тех пор мы вынуждены лишь хранить и передавать эти музейные, по сути своей, артефакты? А если нет, то каким может быть полноценное православное творчество в XXI веке? Можно ли думать о том, чтобы выражать сегодня свои мысли и чувства в некоторых иных, не средневековых формах?
Приведу один из комментариев в блогах на эту тему: «Будем честны: рельсы, заложенные в ранневизантийскую пору, кончились уже к началу XX века, начиная от проблем социальной структуры самой церкви, от принципов ее отношения с обществом и кончая библейской герменевтикой. Православная интеллигенция эмиграции и постсоветской России мечтала вернуться в прошлое, в то, что было до советского потопа.
Возникла мифологема: наши новомученики искупили все недостатки былого, теперь мы вернемся на старые рельсы, только уже без недостатков. Но рельсы-то кончились как таковые, возвращаться можно только в мираж, вот в чем дело». Слишком ли сурова такая оценка, не знаю.
Да и если говорить о старых формах, то не выходит ли так, что мы пользуемся ничтожной долей тех богатств, которые называем преданием, совершенно забывая об остальных?
Вот только один небольшой пример: на утрене читается канон, своего рода богословская проповедь в поэтической форме на тему наступающего праздника. Каноны практически не понимаются рядовыми молящимися, и вряд ли будут хорошо поняты даже на русском языке.
Можно ли задуматься о том, чтобы в некоторых случаях заменять каноны еще более древним гимнографическим жанром – кондаком, драматической поэмой, где тот же самый праздник или житие раскрывается в диалогах? Это будет новаторством – но одновременно и возвращением в ту самую Византию, где кондаки были написаны еще прежде канонов. Творческим может быть и обращение в прошлое.
4. Универсальное и национальное
Эта проблема теснейшим образом связана с предыдущей. Православие сформировалось в кругу определенных культур и обычно воспринимается именно в этих законченных культурных формах. В то же время оно всегда претендовало на универсальность, а русское православие не стало копией греческого или грузинского.
Возможно ли сегодня появление новых православных культур? Каким, к примеру, может или должно стать американское, португальское или израильское православие – когда-то оно возникло в эмигрантской среде, но теперь в церковь приходят новые поколения детей, вполне принадлежащих окружающей культуре? Должны ли они целиком и полностью следовать русским, украинским, молдавским образцам, а если нет, то каким будет их православие?
А каким может стать оно, например, в черной Африке, где нет и никогда не было Византии, а климат не способствует ношению пышных облачений, зато есть свои традиции и обряды – например, принято всенародное пение и пляски? Весь мир обошла запись молитвы Господней (Baba yetu, «Отче наш») в исполнении танзанийского христианского хора, она даже стала музыкальной заставкой к известной компьютерной игре «Цивилизация». Это пение прекрасно, но ведь это совсем не знаменный распев и не партес – можно ли в Африке такое петь на православной литургии? Если нет, то почему? А если да, то как будет выглядеть вся остальная литургия?
Да и возможно ли изменение уже существующих культурных традиций? Русская культура была очень разной в московское, имперское, советское время, сегодня она не повторяет ни один из прежних образцов, да и внутри себя не однородна. Насколько разумно тогда обращение к идеализированному образу дореволюционной русской культуры, которая к тому же известна нам исключительно из книг? И в глобализованном мире – насколько может и должна национальная церковь открываться иноземным влияниям?
5. Экуменическое общение
Это наблюдение подводит нас к еще одному вопросу, о котором мне уже доводилось писать[2]. Официальный экуменизм (общение представителей разных конфессий в протокольном формате), по сути, выполнил свою роль и уже не имеет особых перспектив. В то же время постоянно увеличиваются возможности для экуменизма неофициального, связанного с общением и совместными действиями отдельных людей, которые при этом не планируют менять юрисдикционную принадлежность.
Более того, мы обнаруживаем, что общие взгляды встречаются у людей разных конфессий, а принадлежность к одной конфессии еще не обязательно означает тождество веры: русские православные могут верить во Христа, а могут – в «русский мир».
Визит папы Франциска в Константинополь осенью 2014 года показал, что в католическо-православном диалоге можно прекрасно обойтись без стотысячного раунда переговоров о Filioque, непорочном зачатии Богородицы и папском примате – о тех догматических разногласиях, которые, по-видимому, непреодолимы, но в то же время для большинства верующих совершенно несущественны.
Вообще, по-видимому, конфессиональные рамки, как и государственные границы, никуда не денутся в ближайшем будущем, но значат они всё меньше. Люди общаются и делают совместные проекты поверх них, хотя при этом у каждого свой паспорт и порой необходимо бывает получать визы.
6. Психологизм и духовность
Средневековый мир не знал психологии и психотерапии, и христианские практики (такие, как исповедь) в немалой степени были призваны решать задачи, с которыми сегодня принято обращаться к дипломированным специалистам. Это обстоятельство порождает много пастырских проблем: люди с психологическими или даже психиатрическими проблемами прибегают к помощи духовника, но он просто не в состоянии ее оказать – а профессионалы, способные это сделать, при этом могут совершенно не понимать христианской веры пациента.
Но это не только пастырская проблема. Многие явления, которые традиционно относят к духовной сфере, могут быть достаточно легко объяснены через призму психологии и даже психопатологии. К религии человек часто прибегает в поисках выхода из мучительных для него психологических состояний. А ведь отсылка к вечному и надмирному так легко становится мощным инструментом манипуляции и невротизации.
Как, с одной стороны, отделить духовное начало в человеке от психического и, с другой стороны, как помочь им прийти в гармоничное равновесие – мы, по сути, только начали задумываться о самом существовании этой проблемы.
7. Семья и сексуальность
Наиболее яркий пример – отношение к проблемам пола. Современный мир упивается сексуальностью, а кризис семьи как института – постоянная тема для дискуссий. Как относится к этому православное христианство – просто повторяет древние нормы, согласно которым существуют только два четко разграниченных состояния: брак и блуд? Но в современном обществе эта граница достаточно расплывчата и условна, и связь, не оформленная, как брак, не обязательно означает распущенность и вседозволенность.
Всё чаще можно видеть, как к венчанию пары приходят после нескольких лет совместной жизни и даже рождения детей, когда их союз уже состоялся и утвердился – и такая практика даже иногда встречает пастырское одобрение. Во всяком случае, это лучше пышных венчаний, за которыми следует скорое (и в нашей нынешней практике совершенно беспроблемное) расторжение церковного брака.
Впрочем, не в одном браке дело. Христиан часто обвиняют в том, что они вообще отрицают всякую сексуальность, считая ее по определению греховной. Можно привести множество цитат, что это не так, но… на практике это бывает именно так. Можем ли мы не просто реагировать, зачастую запоздало, на вызовы времени, но предложить миру актуальное и действительно христианское слово на эту тему? Будет ли это слово заключаться в подробном перечне того, что «можно» и того, что «нельзя», или мы можем постараться доходчиво объяснить, что мы, собственно, имеем в виду под христианским отношением к браку и сексуальности?
От карты к небу
Это лишь некоторые из задач, которые стоят перед нами, и скорее всего, для каждой из них нет единственно верного решения. Если нужно дать им какое-то общее название, я бы сказал, что это преодоление провинциальности. Хронологической провинциальности (нам уютно в нашем маленьком средневековье), культурной провинциальности (русский мир, а другого не знаем и знать не хотим), да и вообще всех видов боязливого и недоверчивого отношения к большому миру, которое заставляет прятаться в своем маленьком гетто и провозглашать его самым лучшим и вообще единственным на свете.
В поисках ответов нам безусловно поможет опыт западных христиан, которые прожили иной, чем мы в России, двадцатый век и столкнулись с подобными вызовами в другое время и по-другому. В то же время хочется верить, что и опыт христиан русской традиции (без жесткой привязки к государству или национальности) может оказаться полезным христианам из других народов и стран.
Этот путь не будет похож на легкую прогулку. Взять хотя бы только одну проблему: отношение церковных структур к наличной власти, их неумение и нежелание «уклоняться от объятий». Это началось у нас только в 2010-е годы, когда власть демонстративно заговорила о традиционных православных ценностях? А разве в либеральные 1990-е епископы и священники не сотрудничали с власть имущими и богатыми людьми, старательно избегая вопросов о социальной справедливости и защите неимущих? А в 1970-е не произносили пышные речи о борьбе СССР за мир во всём мире, не замечая в упор отсутствие свободы вероисповедания?
Мне часто доводилось слышать, что эта проблема возникла в 1927 году, когда митрополит Сергий подписал соответствующую декларацию о сотрудничестве с атеистической властью. Но я не могу не признать очевидного: в этом он продолжал традицию имперской России, где церковь была подчинена императору и даже официально признавала его (а не Христа) своим «крайним судией». В 2000 году был канонизирован епископ Арсений Мацеевич, который в середине XVIII века отказался признавать за короной власть над церковью, а равно и новомученики первой половины XX века, не признававшие эту власть и за большевиками – но был ли выучен их урок?
Когда же началась эта зависимость русской церкви от верховной политической власти? При Петре, или при его отце Алексее Михайловиче, или при Иване Грозном? Но разве традиция подчинения власти сложилась не в Византии задолго до прихода на Русь? И если мы будем последовательно спускаться к истокам – нам придется задуматься о том, что произошло в начале IV века при императоре Константине, когда христианство в империи стало дозволенной, а вскоре и официальной религией.
Для кого-то это значит, что православие неотделимо от монархического устроения общества и нужно вернуть России монарха или по крайней мере притвориться, что он вернулся. Кто-то сделает противоположный вывод и откажется от православной традиции как несовместимой с демократией. Но можно задуматься и о более тонкой настройке… Христианство обладает опытом выживания при враждебной государственной власти (в первые века и в СССР), намного больше у него опыта жизни при формально христианском монархе, который покровительствует церкви, но не задаром. Значит, в принципе возможен и опыт жизни в совершенно иных условиях – в демократическом государстве, где религия становится частным делом каждого. Остается только этому научиться.
И я уверен, что здесь русским христианам очень пригодится опыт, к примеру, Италии, Испании, Португалии и многих стран Латинской Америки, переживших переход от авторитарных и тоталитарных режимов, опиравшихся на церковь и традиционализм, к современной светской демократии.
«Христианство только начинается», – сказал отец Александр Мень в 1990 году, накануне своей гибели – а также накануне распада СССР и начала краха наших иллюзий. Этот взгляд строго противоположен другому, куда более привычному: «православие целиком и полностью уже состоялось, наша задача его разве что охранять». Но это очень оптимистичный взгляд, если вдуматься. Если принять слова отца Александра, то весь наш двухтысячелетний опыт – не мерило совершенства, но и не нелепое недоразумение. Это опыт, на котором учатся.
Когда «только начинались», к примеру, автомобили, или вообще любое человеческое изобретение, они были крайне несовершенными, и только опыт показывал, как можно их усовершенствовать. Современные автомобили намного лучше, но в их основу заложены те же принципы, что и прежде, только они доработаны до гораздо более высокой степени совершенства. То же самое касается и социальных институтов, например, парламентаризма.
Можно понять слова отца Александра в том ключе, что нечто подобное применимо и к церкви – с учетом того, что этот институт не чисто человеческий и работают над его созиданием и усовершенствованием не только люди. Но и люди – тоже.
Словом, задачник, который нам задал XXI век – наш, и нам искать ответы. Небо над головой у нас общее, и карты неизбежно окажутся достаточно похожими. Только торопиться с исправлениями на сей раз не стоит, лучше сначала внимательно приглядеться и сравнить нашу земную карту с самим небом…
[1] Ежегодник Дома русского зарубежья им. А.И. Солженицына, 2012 год, сс. 248-249.
[2] L’ecumenismo è morto. Viva l’ecumenismo! // La Nuova Europa, N. 1, 2015, pp. 12-19.