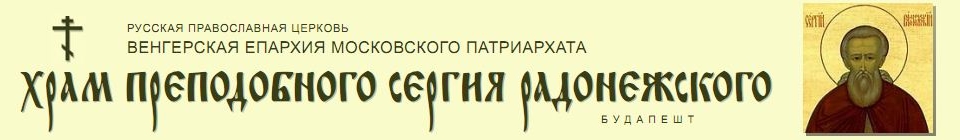ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА
ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ
РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
ПЛАН ПРОЕЗДА
О ПРИХОДЕ
СЛОВО НАСТОЯТЕЛЯ
СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ
ЖИЗНЬ В ЦЕРКВИ
ХРИСТИАНСТВО
В ВЕНГРИИ
ПРАВОЛСЛАВНАЯ
МИССИЯ В МИРЕ
НАШЕ ПРОШЛОЕ
И НАСТОЯЩЕЕ
МУЧЕНИКИ
И ИСПОВЕДНИКИ
ХРИСТИАНСКИЕ ПРАВЕДНИКИ
ЦЕРКОВЬ
И ГОСУДАРСТВО
СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
ВОСПОМИНАНИЯ
И ДНЕВНИКИ
ВСЕХ ИХ СОЗДАЛ БОГ
СОВЕТЫ ВРАЧА
БИБЛИОТЕКА
СТРАНИЦА РЕГЕНТА
ФОТОГАЛЕРЕИ
ДУХОВЕНСТВО ХРАМА
НАШИ РЕКВИЗИТЫ
КОНТАКТЫ
ССЫЛКИ
«Большевики убивали переименованиями…»
Источник: Фонд Возвращение
«МЕНЯ УЖЕ ЗАКЛЕЙМИЛИ КАК «ЦЕРКОВНОГО ВЛАСОВЦА» И «НОВОДВОРСКУЮ В РЯСЕ»»: Размышления протоиерея Георгия Митрофанова о Церкви и государстве, о злодеях и доверчивом народе, об экспроприации исторической российской символики большевиками. Специально для Фонда «Возвращение».
В беседе участвовал Даниил Петров, Фонд «Возвращение».
Петров: За последнее время Вы дали несколько очень интересных интервью. Многие обратили внимание на то, что Вы высказываете смелые мысли, в том числе критичные как по отношению к нынешней российской власти, так и к отдельным представителям Церкви. Но ведь Вы были воспитаны в советский период, когда перед властью у людей существовал самый настоящий страх. Что же Вам позволяет высказывать такие смелые мысли и не бояться каких бы то ни было неблагоприятных последствий?
О. Георгий: Прежде всего, надо сказать, что именно потому что значительная часть моей жизни прошла в условиях советского общества у меня с очень раннего возраста возникало невыносимое ощущение лживости, которая пронизывала окружавший меня мир. В момент, когда я пришёл в советское время в церковную жизнь, будучи ещё старшеклассником, у меня возникло глубокое убеждение, что именно в Церкви слово правды звучало во все, в том числе и советские времена. Для меня это стало тем более важным, когда я поступил в Духовную семинарию, ибо, готовясь стать пастырем, я должен был помнить, что Церковь — это единственное место, остающееся в нашей стране, где возможно говорить, если не абсолютную правду (ведь я отдавал себе отчёт, в каком положении находится Церковь, поступая в духовную семинарию в 27-летнем возрасте), то почти полную правду, а самое главное, говорить сущностную правду о том, что происходит.
Это нужно было не для того, чтобы изменить мир. От этих юношеских иллюзий я уже тогда освободился. Мне казалось, когда я вступал на путь священнического служения, что я должен быть готовым говорить именно не просто правду, а свидетельствовать о той истине, которую Христос заповедовал всем нам христианам, дабы изменить прежде всего самих себя. По существу, необходимость говорить правду – это попытка духовного самосохранения. Неслучайно, в одном из апокрифических евангелий, Спаситель на вопрос апостолов о том, как исполнить свой долг перед Господом, говорит: «Не лгите».
А сейчас, конечно, в условиях неизмеримо большей свободы слова, нежели та, что была в советское время, я снова слышу и полуправду, и даже полную неправду, которая исходит из уст не только общественных, политических деятелей (что, в конечном итоге, печально, но не смертельно), но даже из уст некоторых представителей Церкви. И у меня возникает тем большее понимание, что, по крайней мере, нам священнослужителям надо стараться быть честными. Добродетель языческая, но её так не достаёт даже в нашем церковном сообществе.
Я понимаю, что стремление быть искренним, быть последовательным, правдивым еще не являет собой полноты идеала духовной жизни человека. Но надо с чего-то начинать. Я начал с этого и пытаюсь этому принципу следовать, тем более что как преподаватель духовной школы, я знаю, как легко спрофанировать слово, преподавая будущим священникам. Мы все живём в особенности в духовных школах в море правильных слов, большинство из которых крайне редко подкрепляются какими-либо поступками. А слово должно быть поступком. Слово должно обязывать к соответствующему поведению, к соответствующему образу жизни. Поэтому не только нужно стараться прямо и честно говорить, но нужно быть готовым отвечать за свои слова.
Почему я говорю об этом столь пафосно и дерзновенно? Наверно потому, что, занимаясь более 20 лет судьбами новомучеников, очень хорошо представляя себе ту эпоху, в которой элементарное слово о Боге могло быть чревато смертью человека, смертью его семьи, я понимаю, насколько сейчас, когда обстоятельства жизни изменились, мы должны быть ответственны, а значит, и честны. Ведь нам же, слава Богу, не грозят пока что ещё никакие гонения. Единственное чем мы можем опровергать свои правильные слова – это ложным образом жизни. Вот чего нужно избегать. Поэтому возвещая какую-то правду, мы должны помнить, что эти слова обязывают нас к соответствующим этой правде поступкам. Для меня необходимость говорить честно, от сердца – это путь к самосохранению себя как человека, как христианина.
Петров: Чтобы Вас не поняли ложно, думаю, Вы согласитесь с тем, что, когда Вы говорите, о вранье, которое существует последние 20 лет, то стоит подчеркнуть, что речь о последствиях предыдущего 70-летия, когда неправда для некоторых была формой выживания.
О. Георгий: Безусловно, эта особенность прошлых 70 лет имеет огромное значение в нашей жизни сейчас. Но я бы задумался и над тем, что эти 70 лет не просто так имели место в нашей истории. Значит, была какая-то предыстория. Сейчас меня гораздо более волнует то, а ПОЧЕМУ эти 70 лет вообще стали возможны, почему наша Церковь в лице куда более благочестивых и образованных нежели я, моих же предшественников-священнослужителей не смогла подготовить наш народ к тому, чтобы он не поддался тем соблазнам, которые обрушились на него и которые с такой легкостью были многими из наших предков восприняты.
У нас часто любят вспоминать летописный рассказ о послах святого князя Владимира, которые, попав в собор Святой Софии в Константинополе, были так потрясены красотой богослужения, что потеряли понимание, где они находятся: на земле или на небесах. Надо сказать, что многие поколения русских православных христиан жили в подобном же ощущении. Они не могли понять, на земле они или на небе. Они пытались иногда жить на земле, как на небе, но – не получалось. Поэтому часто жизнь на земле начинала напоминать жизнь не на небе, а в преисподней. Чувство, общественной, культурной ответственности перед Богом было у нас притуплено: хочешь в полноте быть христианином – уходи из мира, иди в монастырь. А если остаёшься в миру – попостись, помолись, побольше положи земных поклонов, подольше побудь в храме, сделай пожертвование на храм, а покинув это сакральное пространство, возвращаясь в родной профанный мир, веди себя там уже по обстоятельствам, а потом всё замолишь или тебя вымолят.
Эта раздвоенность сознания и привела к тому, что люди в процессе секуляризации нашей жизни, которая наступала уже в 19 веке, не обременённые христианским мировоззрением, не смогли давать христиански мотивированные ответы на вызовы окружающего мира и с легкостью пошли на то, чтобы преступить элементарные заповеди: не убий, не укради, не лжесвидетельствуй. В конечном итоге, не сформировалось у нас понимания того, что за свои слова, тем более, слова христианские, надо отвечать своей повседневной христианской жизнью. Это происходит на разных уровнях.
Я часто слышу упреки, что я выступаю как западник, русофоб и тем не менее, вспомню свои впечатления о жизни, например, западных христиан. В римско-католической церкви существует многообразие монастырских уставов. Какие-то монахи живут очень строго: цистерцианцы, картезианцы. У них строгие посты, жёсткий регламент жизни, они молятся и утром, и днём, и ночью, никогда не покидая стены своих монастырей. При этом есть монашеские ордена, которые допускают для своих братьев довольно свободный образ жизни, обращенный на проповедь, на миссионерство, допустим, доминиканцы, премонстранты, иезуиты. И когда ты посещаешь разные монашеские общины, ты видишь, что, какой устав там есть, такой и соблюдается. Цистерцианцы, например, погруженные в молитву и обеты молчальничества, тебя в упор не будут видеть, когда ты придёшь в их монастырь. А допустим, премонстранты, будут общаться с тобой самым доброжелательным и чутким образом.
Точно также если на Западе принято пристегивать себя в машине ремнём безопасности, то там будут себя пристёгивать, потому что люди отвечают за свои слова на разных уровнях. Поэтому, наверно, коррупция на Западе распространена меньше, чем у нас: если не положено давать и брать взятки, то ты и не будешь этого делать. ЧТО отличает западный христианский мир от отечественного? В нём христианские ценности реализовались в большей степени. О западной цивилизации можно сказать словами Черчилля о демократии: западная цивилизация — очень секуляризованная цивилизация, но другой цивилизации, в которой бы христианские ценности воплотились бы в такой полноте не существует! Это проявляется, в частности, в том, что ТАМ люди не очень любят болтать и за свои слова отвечают. Мы же постоянно грезим о прекрасных мирах из нашего часто придуманного прошлого, находясь в «мерзости запустения» настоящего, как подобает отнюдь не христианско-реалистически мыслящим европейцам, а именно забывшим свои христианско-реалистические истоки евразийцам.
У нас выработалось ощущение, что наши высокие идеалы нас ни к чему не обязывают. Теперь уже даже монахов. Поэтому и возможны такие случаи, когда многие монахи, вкушая запрещенное для них действующим монастырским уставом мясо, даже не намереваются жить в монастырях и разъезжают по городам на спортивных машинах. На первый взгляд перед нами оказывается не монах, а ряженный. А на самом деле он всего лишь «простой советский человек», как пелось в советской же песне. Он просто произносит полагающиеся ему теперь уже не советские, а православно-монашеские слова, которые обеспечивают ему престижный по представлениям мира сего образ жизни. У него нет обременяющей жизнь семьи, у него есть возможность делать пусть церковную, но все-таки карьеру, у него есть возможность тратить деньги только на себя, у него есть возможность получать некое признание, связанное с теми внешними атрибутами духовности, в которые он себя облек. Почему бы не поиграть в эту не очень стандартную для современной России ролевую игру.
И когда я как священник именно Русской Православной Церкви задаю себе вопрос, почему же у нас именно ТАК всё исторически сложилось, я задумываюсь об ответственности больше всего нас, священнослужителей за всё происходящее и в нашей жизни, и в жизни наших пасомых. Вот почему я хочу обратить внимание на то обстоятельство, о котором мало задумываются наши современники. Многие из тех новомучеников, у которых была возможность осмыслить ожидание своей смерти, не склонны были рассматривать себя как невинных жертв. Напротив, у них было ощущение того, насколько же они были далеки от исполнения своего долга, если их пасомые тогда творили ТАКОЕ. Вот это ощущение своей ответственности и вины за происходившие гонения, может быть, давало им силы жить в страданиях и принимать мученическую смерть. «Мы, архиереи, только и годны, чтобы сидеть в тюрьмах» — эти слова священномученика митрополита Кирилла (Смирнова) патриарху Тихону объясняют то глубокое и отнюдь не радостное прозрение, которое наступило у многих наших пастырей в период гонений.
Сейчас, когда идёт полемика вокруг моих интервью, один из моих оппонентов, говоря о том, насколько Запад бездуховнее России вспоминает, звучащие почти кощунственно после кровавого ХХ века, слова классика о том, что на Западе француз будет говорить о «прекрасной Франции», немец — о «великой Германии» и только русские говорят о «Святой Руси». Из этого он делает вывод, что мы, оказывается, гораздо более духовны, чем люди на Западе. Говорить о «Святой Руси» даже до 1917 года было весьма сложно. На Руси были святые, но сама по себе святой стать она не могла. Святым был когда-то Израиль. И то в обольщении своей святостью распял своего же Мессию. Куда конь с копытом, туда и рак с клешней. Мы вслед за Византией решили пойти по пути перманентной святости. В результате «Святая Русь» превратилась у нас на многие десятилетия в цитадель богоборчества. А теперь мы с легкостью снова стали именоваться «Святой Русью», как будто выбросили из аббревиатуры «СССР» две буквы «С» и оставили одну и получилось «СР» — «Святая Русь».
В связи с этим не могу не поразиться тому, что недавно произошло в Ростове, где от избытка благочестия запретили демонстрацию рок-оперы «Иисус Христос-суперзвезда». Поражаюсь гражданам-инициаторам. Они, по всей видимости, забыли, как эту же рок-оперу в советское время запрещали за пропаганду религии. Как же мы легко превращаемся из антирелигиозников в «ревнителей святынь»? И теперь даже многие пастыри начинают этому сочувствовать.
Помните слова Пушкина о Чаадаеве: «Он в Риме был бы Брут, в Афинах — Переклес, а здесь он офицер гусарский»? Когда-то в своём славянофильском раже я делал вывод о том, насколько же одухотворена Россия, если у нас гусарский ротмистр подобен Бруту и Переклесу. Со временем я стал понимать, насколько же несчастна та страна, если люди, подобные Бруту и Переклесу вынуждены пребывать в ней «в оковах службы царской», а не преображать жизнь страны своим творчеством. И действительно, это трагедия очень многих: штабс-ротмистр Хомяков, поручик Лермонтов, подпоручик Достоевский, штабс-капитан Толстой. Я вспомнил об этом, потому что даже тогда, когда у нас был пусть и не большой слой действительно образованных людей, но все еще не была создана инфраструктура, в которой они могли реализовывать свои таланты. Мы вынуждены были в салонах говорить о Боге, о судьбах России, даже о серьёзных научных проблемах. Но это отнюдь не являлось свидетельством нашей особой одухотворенности.
Европейцы знали, что в салонах и за столом надо говорить, о чем положено говорить именно в салонах и за столом, а о высоких проблемах нужно говорить на академических и проповеднических кафедрах, парламентских трибунах, в научных журналах. Но когда этих институтов нет, все наши высокие слова выливаются в пустую говорильню. Мы приучаемся воспринимать сказанное нами в застольной беседе среди единомышленников слово как Поступок. В советские годы салонные беседы исчезли, но появились кухонные разговоры. Поэтому я так ценю царствование Александра Второго, когда начали создавать инфраструктуру для реализации человеческих талантов: свобода печатного слова, университетские свободы, органы земского самоуправления, основанное на всевластии закона судопроизводство и пр. Люди тогда почувствовали, что свои слова можно преобразовывать в дела, но вскоре наступил период контрреформ, вновь обрекший многих на бесплодное словоблудие.
Петров: Позвольте оттолкнуться от некоторых Ваших мыслей, высказанных в беседе год назад. Вот Ваша цитата: «Возвращаясь к деятельности по возвращению названий, надо сказать, что есть в ней одна опасность: лёгкая, поверхностная имитация нашего возвращения к истокам. Улицы названы правильно, людей только соответствующих нет, а нужно людей взращивать». В связи с этим вопросы: кто и как должен взращивать людей? Семья, школа, общество, государство, Церковь?
О. Георгий: По собственному опыту знаю, что семья имеет большое значение для развития детей. Ты можешь ребёнку, если будешь им заниматься, дать намного больше, чем школа, именно для формирования его глубинного мироощущения. Не всегда это удаётся, но родителям это гораздо легче сделать, чем любой школе. Однако нормальных, мыслящих, ответственных семей у нас ничтожно мало.
Второй аспект — это школа. Если же говорить о деятельности школы в контексте вашей деятельности в области восстановления исторической преемственности, то нельзя не подчеркнуть, насколько неудовлетворительны школьные учебники истории. Складывается впечатление, что их задача – именно размыть ясное видение нашей истории. Школьные учебники в своей псевдо-объективистской безоценочности, по сути дела, смешивают добро и зло, и делают, в частности, вашу деятельность по возвращению исторических ценностей совершенно ненужной. Нынешнее преподавание истории порождает равнодушие. Поэтому школа сегодня в части воспитания гражданского, тем более, исторического самосознания свою миссию не исполняет. Тем более, что учителя остаются прежними и живут в тех идеологических стереотипах, в которых они когда-то были образованы.
От государства здесь зависит больше, потому что оно может направить политику школьного образования в то или иное русло, поддерживать определённые программы, культурные начинания, которые призваны активизировать историческое самопознание в обществе. Однако эти программы, даже если получают порой немалые деньги, реализуются чиновниками, которые главную цель своей деятельности видят в освоении выделяемых бюджетных средств. За таким утилитаризмом, на самом деле, стоит глубокое неверие и чиновников от культуры, и чиновников от образования, и иных в актуальность проблем, которые призваны решать образовательные программы.
Мы с Вами можем подвести некоторые итоги прошедшего года. Так, в Петербурге были инициативы, обсуждения, опросы по возвращению исторических названий. Но в результате всё это натолкнулось на 3-летний мораторий. Впрочем, для Петербурга этот вопрос, может быть, не так актуален. У нас улицу хоть как назови, её культурно-историческая суть для пытливого взора всё равно проступит. А вот для новодельных городов порой наоборот: название наполняет всё содержание.
Член фонда «Возвращение» Мединский, ставший министром культуры России, в телепередачах, в том числе тех, в которых мы совместно принимали участие, совершенно верно заявляет, что нет возражений против возвращения утраченных исторических названий. Дискуссии могут возникнуть с новодельными советскими названиями, в которых, допустим, увековечено имя террориста, организатора репрессий или просто какого-нибудь руководителя коммунистического режима. И действительно! Мы же ещё год назад с Вами говорили о том, что базовая проблема в области истории и культуры в России – это то, что палачи до сих пор официально таковыми не признаны. Каждый даёт им свою собственную оценку. Кто-то восхваляет, кто-то наоборот обличает. Коль скоро в России не произошло осуждения коммунистического режима, всего коммунистического периода нашей истории, то утверждения о том, что какие-то исторические деятели этого периода являются убийцами и т.п. остается частным мнением того или иного гражданина. Не более.
Петров: Но ведь нюрнбергский процесс над коммунизмом, о котором Вы говорили год назад, может происходить не только над всей советской системой, но и над отдельными личностями. Для этого есть юридические механизмы. Так, недавно профессор В.М.Лавров из Института российской истории РАН направил в Следственный комитет просьбу рассмотреть вопрос о наличии признаков экстремизма в некоторых работах Ульянова (Ленина). При определенном развитии событий это может поставить этого автора в один ряд с Гитлером как автором запрещённой «Моей борьбы». Следующим шагом может быть прекращение пропаганды Ульянова (Ленина) за госсчёт в названиях улицах и памятниках.
О. Георгий: Ситуация с обращением профессора Лаврова представляется мне столь же печальной, сколь и нелепой. Ведь она вскрывает то, что Россия, ставшая главной жертвой Ленина и большевизма, до сих пор нуждается в каких-то объяснениях по поводу преступной de facto, но не de jure деятельности большевиков.
Нюрнбергский же процесс над коммунизмом уже вряд ли состоится в нашей стране. Хотя я бы хотел, что бы у нас произошло так, как было в Германии после войны… Сказал это и вспомнил, что меня уже заклеймили как «церковного власовца» и «новодворскую в рясе»: сейчас скажут, что я желаю поражения нашей стране в второй мировой войне. Ведь одной из причин Нюрнбергского процесса было именно военное поражение Германии. Впрочем, я убеждён, что Нюрнбергский процесс произошёл в Германии не только в силу поражения в войне. Всё же для Германии нацистский режим оказался не столь органично выраставшим из ее истории, в отличие от коммунистического режима в России, предпосылки которого коренились прежде всего доимперском историческом прошлом нашей страны. К тому же опять-таки в отличие от Германии у нас так и не произошло христиански мотивированного духовного отторжения от коммунизма, как это имело место у немцев по отношению к нацизму.
Возвращаюсь к проблеме переименований. В современной государственной идеологии тема Великой Отечественной Войны является основополагающей. Попробуйте покуситься на имена даже настоящих советских палачей, если они сыграли какую-то заметную роль в этой войне? Убежден, что не только безыдейные чиновники и ностальгирующие ветераны, но и сформировавшееся в последние два десятилетия поколение не поддержат Ваших инициатив по переименованию топонимов, которые содержат пусть даже мифологизированную память об участниках второй мировой войны.
Я позволил бы себе предложить Вам может быть в чем-то экстравагантный образ, возникающий у меня в связи с деятельностью Вашего фонда в области изменения исторической топонимики. Представьте себе человека, больного проказой. Болезнь неизлечима. Его тело постепенно разрушается. У него гниют пальцы, проваливается нос, но он ещё не ослеп. И вот его помещают в комнату с волшебными кривыми зеркалами, где он видит себя совершенно здоровым и красивым. Он ходит по комнате, загнивая, но всё говорит ему, что у него всё нормально. Даже вдохновение может к нему прийти. А через некоторое время, как это бывает с проказой, он слепнет, погружается во мрак и понимает, что этот красивый образ был иллюзией.
Так вот, топонимика, окружающий культурный ландшафт, памятники и прочее – это ведь зеркало нашей жизни. Нечего на зеркало пенять, коли рожа крива. Недавно я шёл по старому Петербургу в моем родном районе Пяти углов. Я очень привязан именно к этим пронзительно петербургским местам. И увидел, что нет дома Рогова. И вдруг у меня возникло странное ощущение, что это более естественно, чем стоящий рядом, с таким трудом сохраненный дом Дельвига, раздавленный жутким нависающим над ним новодельным архитектурным монстром.
Ландшафт становится таким, каким его делают люди. А делают они его тем или иным, исходя из того, чем живут они сами. Поэтому невозможно через внешнее идти к внутреннему. Такая деятельность может создавать иллюзию того, что у нас якобы есть то, чего на самом деле нет. Здесь уместно вспомнить строки из детского стихотворения: «Что нам стоит дом построить? Нарисуем — будем жить?» и перефразировать их: «Что нам стоит Россию обустроить? Переименуем топонимику – будем жить?».
В ситуациях исторической безнадежности нередко ирония позволяет адаптироваться к реальности. Я живу на Ржевке. Вот какие там названия: проспекты Передовиков, Наставников, Энергетиков. Эти названия явно несут на себе печать квазирелигиозной составляющей коммунистической идеологии. Давайте переименуем эти улицы в стилистике подлинно религиозной православной веры: проспект Передовиков – проспект Подвижников, проспект Наставников – проспект Старцев, проспект Энергетиков - проспект Исихастов. Чего здесь будет больше глупости или кощунства?
А если обратиться к одному из главных ваших топонимических антигероев Бела Куну. Одним из главных его преступлений по отношению к нашей стране были массовые убийства офицеров и мирных граждан в Крыму в 1920 г. Давайте заменим его имя именем генерала Климовича, возглавлявшего контрразведку в Русской Армии генерала Врангеля, которая, наконец, стала успешно бороться с большевицким подпольем в Крыму летом 1920 г. Ведь генерал Климович был профессиональным полицейским, а таковых не часто привечали в контрразведках белых армий до генерала Врангеля, поэтому и работали они в годы гражданской войны мало эффективно. Чего здесь будет больше глупости или политиканства?
Петров: Это будут советские методы в топонимике!
О. Георгий: Вот именно! Это был бы культуртрегерский проект советского качества, форма имитации жизни, унаследованная нами с советских времён, когда мы не жили, а грезили о жизни. Как пел Окуджава: «Исторический роман сочинял я понемногу… и поручиком в отставке сам себя воображал».
Если же говорить более серьезно, то отличительной чертой советских методов в любой сфере было навязывание людям коммунистической идеологии в виде сакрализованных в этой квазирелигиозной идеологии имён, событий причем вне всякого реального исторического контекста, связанного с этими именами и событиями. Такие же методы, как мне кажется, оказываются присущи тем из среды ваших «переименовальщиков», кто рассматривает топонимическое пространство как поле для насаждения отличных от недавних, но столь же тоталитарно навязчивых политических идеологем красно-коричневого или бело-коричневого оттенков. Здесь я не могу не вспомнить очевидно заидеологизированную негативную и уж совсем не христианскую реакцию некоторых Ваших единомышленников на форуме сайта «Фонд «Возвращение» на Ваше же в высшей степени достойное заявление по поводу приговора участницам панк-молебна в Храме Христа Спасителя в августе 2012 г.
Петров: Допустим, Ваша озабоченность более чем обоснованна. Однако один и тот же проект в области культуры может быть многослойным, иметь несколько смыслов и предназначений. То же возвращение утраченных названий можно рассматривать:
А. Как своеобразный градусник, которым мы измеряем «температуру» общества и государства – смотрим на реакцию на, казалось бы, естественное предложение прекратить пропаганду палачей и террористов в окружающих нас именах городов и улиц. По данной реакции судим, на сколько общество и власть последовательны, на сколько знают своё прошлое, куда намерены идти в будущем.
Б. Как повод просветить сограждан и власть по поводу нашей недавней советской истории: а что это за гражданин, в честь которого большевики назвали улицу? Когда и почему советская власть снесла здесь церковь, в честь которой столетиями называлась улица и т.п.? Отсюда сразу возникает логическая связь с целыми направлениями деятельности советской власти, как, например, борьба с Церковью.
В. Как повод рассказать об истории тех мест, где граждане обитают – ведь большинство дореволюционных (в отличие от советских) названий выполняли главную свою функцию – ориентировали обывателя на местности, не давали заблудиться: показывали или куда улица ведёт (в честь города или деревни, куда можно попасть, двигаясь по ней), или что на ней находится (в честь храма или домовладельца). Все эти особенности – неотъемлемо связаны с историей страны и родного края, которую пока так плохо знают соотечественники.
О. Георгий: Проблема в том, что прошлое сейчас очень многих уже не интересует. И связано это в том числе с тем, что наше прошлое очень травматично. И травма передана от родителей детям. У нас уже 1990-ые годы стали «лихими и проклятыми». Хотя я их никогда не назову такими, именно потому, что такого периода надежд у многих никогда не было и не будет. Советский период для кого-то уже далёк. «Был там покой, была великая победа», а цена этой великой победы их уже не трогает. Таким образом, произошло уже отчуждение от собственной истории, и к ней апеллировать бесполезно.
Впрочем, меня как у священника и преподавателя, есть, о чем говорить с паствой и будущими священниками. Я должен говорить о Христе. Недавно я был в одной из самых западных епархий — Гродненской. Меня больше всего поразило то, что там священники с большим интересом отнеслись к моим книгам. Причем не столько к публицистическим («Трагедия России» и пр.), а к сборникам проповедей. Надо пояснить, что мне как священнику, прослужившему почти четверть века, очень сложно представить какого-либо священника, читающего чужие проповеди. Однако в моих проповедях гродненские священнослужители, вероятно, увидели нечто для себя важное и живое. Меня это порадовало, потому что в историческим плане гродненщина — это спорное место. Русский патриотизм в нашем смысле слова там не срабатывает. Там даже среди православных есть и про-польски, и про-белорусски настроенные христиане. Так вот в этом районе я со своими известными идеями про белую борьбу, Российскую империю и пр. вряд ли нашёл бы много единомышленников. Однако мои проповеди, несмотря на то, что в них русская историческая тема присутствует, оказались интересны и востребованы в этой епархии именно в силу обращенности этих проповедей к Евангелию.
Петров: В Вашем прошлом интервью Вы сказали, что «фальшиво звучит Шмелёв», известней писатель русской эмиграции, прославившийся описанием дореволюционной России. Вы предположили, что он занимался своеобразным мифотворчеством. Позвольте предложить попытку объяснения главной линии творчества Шмелева и попросить Вас прокомментировать такой взгляд.
Нельзя ли считать, что красивая, романтическая, ещё чуть-чуть и идеальная картина дореволюционной жизни, предлагаемая нам Шмелевым в его произведениях, — это не что иное, как намеренно подправленная реальная картина, в которой, конечно же, было немало недостатков. Но цель такого акцента в творчестве Шмелева — показать, говоря Вашими словами, отец Георгий, «какую Россию мы потеряли» в 1917 году! Иными словами, Шмелев, используя в своём творчестве художественный приём романтизации изображаемой жизни до 1917 года, так воплощает пушкинское: «Что имеем – не храним, потерявши – плачем».
Не пытается ли Шмелев таким литературным приёмом нам сказать, что какие бы недостатки не были до большевиков, то, что случилось с Россией после 1917 года, настолько ужасно, что не может быть оправданно никак, не идёт ни в какое сравнение?
О. Георгий: Я почти полностью согласен с тем, что Вы сказали. Именно так оно и было. Более того, это очень даже по-русски: «Что имеем – не храним, потерявши — плачем». Это в нашем стиле. Так ведь это же ужасно.
К тому же Россию по существу мы не теряли. Мы живем в ней по сей день. Просто она кардинально изменилась при участии наших отцов и дедов в прошлом веке и при нашем участии продолжает оставаться сейчас такой какой её делаем мы – на уровне семьи, общества, государства, Церкви. И если наличная Россия вызывает у нас чувство отторжения и даже неприятия, не следует делать вид, что её уже нет или, борясь за переименования уличных табличек, замену мемориальных досок и даже повсеместное установление поклонных крестов считать, что таким образом мы сможем найти Россию, которую мы потеряли.
Бунин, критиковавший Шмелёва за эту романтизацию дореволюционной России, сам с болью писал: «Нашим детям невозможно будет даже представить ту страну, в которой мы жили». Однако Вашу мысль нужно продолжить. Шмелёв как писатель находился в традиционной русской парадигме, согласно которой литература призвана не только описывать и украшать жизнь, но и преображать её. Это чисто варварское отношение к литературе: фантазиями преображать мир.
Опять-таки грешу западничеством, но не могу не отметить, что на Западе не меньше великих писателей, чем у нас. Однако обществу там никогда не приходило в голову по литературным лекалам строить свою жизнь. Там живут, не превращая свои жизни в судьбы литературных героев. Литература там знает своё место.
В этом смысле у нас, пожалуй, только Пушкин был действительно европейским писателем. Кстати, его небесспорная жизнь была полнее и ярче, чем его творчество. Это очень важно, ведь все остальные начинали учительствовать и менторствовать: от Гоголя до Солженицына, — и порой в некоторых произведениях превращались из великих писателей в посредственных публицистов и навязчивых резонеров. Таким образом, идея, что литература преобразит жизнь, осталась жива и в 20 веке. Солженицын в тяжелейших условиях советчины принёс в жертву свой талант для борьбы с системой, для преобразования жизни. Я ведь тоже в этой парадигме вырос! Когда я ещё школьником слушал «Архипелаг ГУЛаг» по «враждебным» голосам, мне казалось, что если бы эту книгу у нас издали, страна бы преобразилась. Сейчас уже можно задать вопросы: а во многом ли изменило именно нашу жизнь творчество Солженицына. Увы! У нас и после издания произведений Солженицына огромными тиражами отношение даже к его главным антигероям — чекистским палачам осталось весьма уважительным.
Шмелёв также пошёл по пути изменения жизни художественной литературой. Только он в отличие от Солженицына, стремившегося литературой разрушить мрачное настоящее во имя светлого будущего, Шмелев во имя светлого будущего пытался литературой реанимировать прошлое. Что получилось? Получилась очередная фантасмагория. На его книгах были воспитаны поколения детей эмигрантов. Более того, этим детям объясняли, что они должны вернуться в Россию и сделать ей такой, как у Шмелева. Прошли десятилетия. И вот сравните меру участия наших эмигрантов в возрождении России и, допустим, роль еврейской диаспоры в созидании Израиля или армянской диаспоры в восстановлении и защите Армении. Мы не видим серьёзного вклада в развитие современной России наших эмигрантов и их потомков, несмотря на то, что они при наличии западного гражданства продолжают величать себя русскими беженцами, а не французами или американцами русского происхождения, каковыми быть, по-моему, не менее достойно, а самое главное это соответствует реальному положению вещей.
Петров: Разве Шмелёв в этом виноват?
О. Георгий: Не Шмелев только лишь, но наша традиционная способность питаться фантасмагориями, которые нас ни к чему не обязывают. Потомкам русских эмигрантов первой волны приятно жить, будучи западноевропейцами или американцами, осознавая себя якобы еще и русскими, вместо того, чтобы задуматься, что за эти свои слова надо отвечать. Если твоя «русскость» предполагает лишь определённый рацион блюд, определённый набор книг, музыкальных произведений и самое главное бесконечные разговоры на тему Великой России, которая будучи одной шестой мировой суши невиданным образом куда-то затерялась, то это – всего лишь пока ещё не компьютерная, но ролевая игра для разнообразия досуга потомков русских беженцев. Тех самых русских беженцев, которые не имели «счастья» улечься в расстрельные рвы и братские могилы в родной русской земле, а чаще всего «безболезненно, непостыдно, мирно» упокоились на ухоженных европейских кладбищах, которые ради «заунывной русской тоски» иногда можно называть и погостами.
Чем особенно вреден Шмелев именно для нас? Тем, что он нарисовал такую Россию, в которой чуть ли не в полноте воплотился идеал православной русской жизни без объяснения, куда и ПОЧЕМУ это Россия улетучилась. Признаться, я сам, многие годы задавался всегда для меня непростым вопросом, ПОЧЕМУ Россию постигла катастрофа 1917 года. Конспирологическими версиями я никогда не увлекался прежде всего как унижающими достоинство нашего народа, которого «мировые злодеи» разных мастей с легкостью могут поминутно обманывать и уничтожать. Но при этом столь же вдохновенно, сколь и невнятно многие годы я вещал про «трагедию России, необъяснимую и загадочную». Конечно же, это была страусиная позиция. Причина трагедии 1917 года в том, что Россия оказалась не столько даже военно-политически, сколько духовно-культурно слабее других европейских стран, участвовавших в первой мировой войне. Ведь это надо было ухитриться, оказавшись в стане военных победителей, развалиться государственно и религиозно-нравственно, при чем в еще большей степени, чем это произошло с побежденными. И во второй половине своей жизни я понял, что надо попытаться понять истоки этой драмы. Конечно, в истории подобных драм было немало: империи, куда более величественные, чем Россия, и даже целые поместные церкви возникали и исчезали. Но почему же именно наша страна обрушилась так быстро и во многом безвозвратно?
К сожалению, Шмелев не пытается задуматься над этими истоками нашей исторической драмы. Его собственные юношеские искания не удовлетворялись патриархальным московским благочестием, которое он будет столь умилительно описывать после революции. Он искал живого Бога и не видел его в патриархальном Замоскворечье. Но постепенно Бог в его жизни отошел на второй план. А потом с ним произошла «обыкновенная история» — он на склоне стал идеализировать и даже мифологизировать то, что он ранее не ценил. Шмелёв, по сути, обманул и поколения потомков эмигрантов: они были совершенно не подготовлены к встрече с той реальностью, которая их ожидала в России. Шмелёв писал для анестезии эмигрантских комплексов. Эту роль он исполнил, но это не созидательная роль. Когда-то видя реальную Россию, как мы сейчас понимаем, в целом, во многом достойную страну, он, в общем, не пытался христиански деятельно ей служить. Под последним я понимаю тот контекст, в котором можно говорить о Столыпине как христианском политике, о Деникине как христианском воине, о Тураеве как христианском учёном, о Сикорском как христианском авиаконструкторе, о Рахманинове как христианском композиторе и т.д.
Я всегда был слишком историком, чтобы всерьёз воспринимать русскую литературу. В России историки — люди, на самом деле, не очень популярные. Почему, например, у нас любят говорить, что имперский период в русской Церкви разрушил благочестие? Да, потому что в этом период появились церковные историки, которые дали не вымышленную, агиографическо-летописную, а научную, историческими данными подкреплённую картину церковной жизни России. И оказалось, что в прошлом взгляде на церковную историю было много вымысла и мифов. Эти историки оставались при этом православными христианами, но они невольно стали разрушителями нашей наивной детской веры.
А такая вера не так безобидна: нельзя взрослому верить, как ребёнку. Детская вера у взрослого – это признак либо психического заболевания, либо лукавства. В наше время – чаще признак лукавства. Слова Христа о том, что надо быть как дети, подразумевают совсем другие вещи. И в этом проявляется наша, русская проблема. Мы – народ, крепкой верой не обладающий. Крепкая вера должна пройти через горнило сомнений. Мы народ – доверчивый, а это не одно и то же. И наша доверчивость очень часто выступает суррогатом веры. И с русским народом эта доверчивость играла не раз очень злую шутку: кому мы только не доверялись… Вот в частности, и вашему топонимическому антигерою — палачу Бела Куну, которому в России доверчивые русские позволили совершить преступлений гораздо больше, чем на его исторической родине — недоверчивые венгры.
Петров: Хотел бы рассказать, что произошло в России в части возвращения названий за прошедший год. В Перми улицы Кирова и Орджоникидзе вновь стали Пермской и Монастырской. Площадь Революции в Плёсе снова стала Торговой. В самой Церкви происходят положительные сдвиги: Тутаевское (в честь революционера) благочиние Ярославской епархии снова стало Романово-Борисоглебским (в честь трёх святых). В Вятке, которая пока ещё Киров, улицам Большевиков, Дрелевского, Халтурина и Энгельса возвращены названия Казанская, Спасская, Пятницкая и Преображенская. Позвольте Вас попросить о комментарии, отец Георгий! Вы готовы разделить хотя бы частично позитивную оценку этих событий?
О. Георгий: Потому мы с Вами периодически и общаемся, что и Вы, и я являемся сторонниками возвращения исторических наименований, хотя и в чем-то различно оцениваем смысл и значение этой деятельности. Мне отрадно, что в нашей часто просто умирающей как культурно, так и экономически провинции возможны хоть какие-то позитивные перемены. Превращение в очень мне понравившемся в детстве городе Плёсе площади Революции в площадь Торговую в высшей степени символично. Ведь наметившаяся сейчас активизация городской жизни в Плёсе во многом связано со строительством в его окрестностях правительственных резиденций, для обитателей которых торговая проблематика представляется куда более актуальной, чем революционная. Так что прошлое в данном случае актуализировало современность. Кстати, нечто подобное могло бы произойти на территории Ленинградской области, если бы знаменитому своими фешенебельными коттеджами «новых русских» близких к правительственным сферам поселку, носящему с 1948 г. название «Ленинский» вернули его историческое финское название «Хаппала».
Что касается превращения в носящей имя «Кирова» Вятке четырех улиц из революционных в православные. Надо признать, что отдаленность содержания революционных топонимов от содержания жизни явно не похожих на революционеров кировско-вятских обывателей столь же очевидна, как и отдаленность содержания православных топонимов от духовной жизни населения Кирова, практикующих православных христиан среди которых вряд ли наберется больше 2-3 %.
В связи с этим не могу не отозваться на Вашу интереснейшую статью в августовском номере журнала «Родина» о возвращении в январе 1944 г. в Ленинграде 20 исторических названий ряду площадей, проспектов и улиц. Насколько я понял из Вашей статьи, Вы безусловно положительно оцениваете это событие. А между тем у меня это мероприятие вызывает, по меньшей мере, двойственное чувство. Это связано прежде всего с тем, что данные переименования находились в одном ряду с лукавыми пропагандистскими акциями коммунистического режима периода второй мировой войны по приданию этому антирусскому режиму облика русской национальной власти. Разве Вас не возмущает, например, что в качестве награды за действительные подвиги наших солдат на поле брани их стали награждать орденами Славы трёх степеней, которые представляли собой прикреплённые к георгиевской петлице пятиконечные звёзды, лукаво подменявшие на своих исконных местах солдатские кресты святого Георгия четырёх степеней. А офицерские ордена, воспроизводившие стилистику российских императорских наград, украшенные изображениями Суворова и Кутузова, Ушакова и Нахимова, которые доживи они до коммунистического режима стали бы его очевидными противниками или жертвами. Чем, как не ещё одной экспроприацией на этот раз исторической российской символики можно назвать эту пропагандистскую акцию уничтожавшего историческую Россию коммунистического режима? Весьма показательно, что и после переименования в Ленинграде 20 городских топонимов, не только сам город — «колыбель Революции», но и вся страна продолжали почти полвека оставаться цитаделями коммунизма, стремившегося заставить Россию не только забыть, но и предать своё историческое прошлое. А сами партийные «переименовальщики» Кузнецов, Попков и пр. стали через шесть лет жертвами (конечно же, отнюдь не за эти переименования) режима, которому ревностно служили всю свою жизнь.
Впрочем, возвращаясь к Вашему вопросу о положительных сдвигах в деятельности по восстановлению исторической топонимики в провинции, хотел бы отметить следующее. Конечно, в провинции с топонимикой ситуация обстоит ещё страшнее, чем в больших городах. Большевики там ещё больше убивали историческую память переименованиями. Однако важно, чтобы возвращение названий не стало поводом к новым имитациям и подделкам! Чтобы это не создало иллюзию того, чего уже нет. Жить в иллюзиях всегда опасно особенно русскому народу, которому постоянно не хватало духовно-исторической трезвости.
Петров: Так ведь никто и не стремиться преувеличивать значение этой активности. Речь, по сути, о политике малых дел: понемногу наводить порядок в умах, в душах, в городе, в стране и т.п.
О. Георгий: Я с Вами полностью согласен. Более того, несмотря на сопровождавший нашу церковную жизнь в последние двадцать лет храмостроительного «гигантизма» и церковно-пропагандистского триумфализма я отдаю себе отчет, что сейчас и в Церкви наступило время малых дел – прежде всего малых приходских общин, где ещё теплится или зарождается подлинная духовная жизнь весьма еще немногочисленных ответственных и мыслящих прихожан.
Выступая на презентации моей последней книги «Русская Православная Церковь на историческом перепутье ХХ века» (за что потом на меня обрушились некоторые мои оппоненты), я заявил, что меня больше не беспокоит ни судьба Советского Союза, развал которого почему-то объявляют трагедией (не понимаю, как русский патриот может рассматривать как трагедию крушение советского геополитического монстра, который превращал Россию в дьявольской пародию на саму себя), ни даже судьба Российской Федерации. Сердечно волновать может судьба того, за что ты отвечаешь, что ты можешь изменить. Меня волнует судьба Русской Православной Церкви, которая теряет самою себя как Церковь Христову и сейчас на самом деле переживает тяжелейший период с точки зрения определения своей духовной самоидентификации. Вынужден опять сделать исторический экскурс.
Великим испытанием и искушением Церкви стала политика императора Константина. Он много грехов своих искупил, издав Миланский эдикт и прекратив гонения на христиан, но и остановиться на этом не сумел. Будучи человеком своего времени и к тому же в своем недавнем прошлом языческим государем-полубогом, император Константин решил сделать христианство, которое вдруг стало для него подлинной, живой верой, государственной религией. Это вызвало глубокий внутренний протест подлинных христиан, не желавших оставаться в становящейся государственной религией Церкви, которую стали наполнять конформистски настроенные вчерашние язычники. Но эти христиане не уходили из Церкви, прежде всего потому, что они сами и были подлинной Церковью. Они сохраняли Церковь, собой противопоставляя в ней государственной религии живую, прежде всего евхаристически общинную жизнь во Христе. Так, в частности, стало развиваться монашество. Это здоровая реакция Церкви: раз вы хотите наполнить Церковь людьми, которые не являются христианами по существу, тогда мы, христиане, отойдём в сторону и попытаемся не утерять эту Церковь в своих монастырских общинах. Вот почему монашество было так важно в Византии. Это было люди, которые не переставали напоминать о подлинном церковном идеале – о том, что Церковь ХРИСТОВА, а не КЕСАРЕВА! Другое дело, что христианство в Византии в итоге, так и замкнулось в монастырях: хочешь быть настоящим христианином – иди в монастырь. Хочешь просто, теплохладно, полуязычески-полухристиански жить – оставайся в миру.
Сейчас происходит нечто более страшное. Церковь начинает превращаться, в том числе и при соучастии некоторых представителей духовенства, не в государственную религию, а в государственную ИДЕОЛОГИЮ, в идеологию государства, которое объявило себя государством светским. То есть это государство, которое даже и не собирается, хотя бы внешне, как это было во времена императора Константина, воцерковляться. Государство просто использует Церковь — берёт её в качестве инструмента своего агитпропа, пытается православной атрибутикой дополнить свою деятельность, отнюдь на Христа не ориентированную. И это – самое искусительное.
Творчество писателя Войновича всегда вызывало у меня критическое отношение, оно казалось мне пустым ёрничеством человека, равнодушного к судьбе моего народа, солдат Иван Чонкин представлялся мне клеветой на русского солдата, этаким псевдо-Тёркиным и т.д. Когда я прочёл в конце 1980ых антиутопию «Москва 2042», я подумал только одно — насколько же Войнович не верит в Россию, насколько он презирает Русскую Православную Церковь. Но наблюдая происходящее в нашей церковной жизни сейчас, я вынужден признать, что, во многом, Войнович, к сожалению, оказался прав. Образ отца Звездония сейчас вполне отчетливо ассоциируется с вполне конкретными представителями нашего духовенства. И прогноз Войновича, если он всё же верен, – это приговор и для страны, и для Церкви. Последнее меня волнует как священника больше всего.
Петров: В Российском Государственном Историческом Архиве случайно натолкнулся на такую цитату, произнесённые в 1909 году на открытии в Могилёвской губернии Горецкого землемерно-агрономического училища, его директором Иваном Барсуковым: «Изучение русских законов покажет учащемуся, что Император, яко христианский Государь, есть верховный защитник и хранитель догматов Церкви и блюститель Правоверия и всякого к церкви святой благочестия, поэтому помимо присущего всякому культурному человеку религиозного чувства, ученик обязан чтить Церковь, как государственное учреждение, более того, как одну из важнейших основ нашего государственного строя». Не кажется ли Вам, что в таком подходе, может быть, и заключается одна из причин тех проблем, которые ждали Россию в 1917 году и после?
О. Георгий: Это цитата, начинающаяся с воспроизведения статьи 42 Основных законов Российской Империи, во второй своей части говорит о совершенно неадекватном восприятии даже человеком, образованным и имевшим солидный статус в государственной иерархии той эпохи, основополагающего для христианина представления о Церкви как Теле Христове.
Когда я уже говорил, что до 1917 г. Православная Церковь была государственной религией, а сейчас рискует стать государственной идеологией. А это значит, что сейчас она себя обрекает на ещё более серьезные проблемы в осуществление своего служения, потому что, в конечном итоге, государственная религия плохо исполняет свою миссию, а государственная идеология религиозного смысла уже совсем не несёт, хотя и может содержать в себе квазирелигиозные элементы, как это имело место в идеологии коммунистического государства. При этом многие представители духовенства в Церкви начинают подменять христианскую веру той или иной разновидностью тоталитарной идеологии, будь то красно-коричневое евразийство или бело-коричневое западничество.
Петров: В одном из Ваших последних интервью Вы сказали, что в нашей Церкви не было прямого осуждения так называемого сергианства как политики Патриарха Сергия, допустившего сотрудничество с богоборческой властью, однако было косвенное осуждение в виду канонизации как святых новомучеников тех священнослужителей, которых патриарх вместе с ВКП(б) преследовали. Есть ли в связи с этим необходимость в каком бы то ни было официальном решении Церкви по сергианству, может быть, на уровне церковного собора?
О. Георгий: Во-первых, «сергианство» в качестве богословского учения — это абстракция, так как патриарх Сергий не сформулировал определенно в каком-то имеющем канонически обязательное для Церкви значение документе принципов сотрудничества Церкви с государством, пытающемся эту Церковь уничтожить. Это была его практическая политика. Впрочем, в одном отношении она была действительно оригинальна: никогда ещё в истории русской Церкви не было попытки заключить союз не просто с государством, а с государством богоборческим. В этом он был первопроходцем, и эта его церковно-политическая новация привела к более разрушительным для церковной жизни последствиям, чем многовековое существование Православной Церкви в качестве государственной религии.
Важно понимать, тем не менее, что, в Церкви, позиция патриарха Сергия не была единственной точкой зрения. И, несмотря на то, что и сегодня встречаются церковные деятели, которые склонны безусловно оправдывать политику патриарха Сергия, канонизация его церковных оппонентов показывает, что «сергианский» путь не был единственно возможным, а уж тем более единственно правильным.
Думаю, нужно говорить не о необходимости «осудить сергианство» как таковое, а о необходимости изменить понимание Церковью своего места в государстве. Первым опытом, в чём-то успешным, в чём-то не очень, стали утвержденные собором Основы социальной концепции Русской Православной Церкви. В них была предпринята первая попытка эту проблему чётко сформулировать. Я надеюсь, за ней последует следующие шаги.
Однако приходится констатировать, что «сергианство» живёт и побеждает в конкретной повседневной церковной деятельности не только некоторых наших иерархов, но и рядовых священников, настоятелей храмов, которые порой основное внимание в своей деятельности уделяет, в первую очередь, выстраиванию отношений с властью: от главы местной администрации до губернатора. При этом ощущение, что Церковь – это мы, а государство — это они, и что мы должны обращать, прежде всего, внимание на себя, на наших пасомых, пропадает, что мешает исполнять прежде всего как пастырские, так и архипастырские обязанности.
Но повторяю, к сожалению, это традиция многих веков. Просто раньше губернаторы и другие начальники (о чём говорит и приведённая Вами цитата Барсукова) были формально православными, а сейчас, несмотря на комсомольско-партийно-гэбэшное прошлое наших губернаторов, с ними многие представителя нашей церковной иерархии строят отношения как с губернаторами исторической России.
Петров: Отец, Георгий, как Вы считаете тот во многом отрицательный для Русской Церкви информационный фон, возникший в текущем году в связи с рядом поводов, может ли повлечь всё-таки какие-либо позитивные последствия, возможно, побочные?
О. Георгий: Мне кажется, что Церкви в открытом обществе, в обществе, где существует свобода прессы, жить в чём-то легче. Ведь люди, не боящиеся Божьего суда, часто боятся суда человеческого. Таким образом, публичная критика в открытом обществе может стать фактором сдерживающим. Может быть, праведными дурные представителя нашего духовенства и не станут, а будут более осторожными лицемерами, однако лицемерие – это дань, которую порок платит за добродетели. Хуже, когда эти темы закрыты для обсуждения. Другое дело, что я как священник, как христианин считаю себя не вправе все наши проблемы обсуждать публично, но когда они выходят на публичный уровень, считаю, что лгать тоже не подобает. Нужно отвечать за свои недостатки, а не только кичиться своими добродетелями.
Петров: У многих рядовых православных людей нередко возникает вопрос, в какой степени возможно обсуждение с их стороны деятельности Церкви и отдельных её представителей, в какой степени в тех или иных случаях возможна критика того, что кто-то в Церкви делает. Опять же текущий 2012 год этот вопрос споров между православными выявил достаточно остро.
О. Георгий: Если человек не соглашается по вероучительным вопросам с церковной иерархией, он должен уходить из Церкви, тем более, если речь о священнослужителе. Если же он, соглашаясь по вероучительным вопросам, признавая каноничность и благодатность церковной иерархии, не согласен с теми или иными действиями священнослужителей, он вправе не соглашаться, а ему вправе возражать. На священников в этом случае могут наложить печать молчания. Лично у меня была ситуация, когда мне было благословлено не касаться некоторых тем, и я как священник Русской Православной Церкви принял это благословение церковной иерархии.
Однако нельзя бояться дискуссий. Это вредно для всех, в том числе и для Церкви. Мы должны свободно ставить все вопросы, отдавая себе отчёт, что мы будем отвечать за свои слова. А вот безответственно говорить общепринятые, приправленные духом внешнего благолепия и триумфализма ничего не значащие и ни к чему не обязывающие слова – это и бессмысленно, и безнравственно.
Поэтому чем искреннее и острее будет наша дискуссия о самих себе, тем лучше. Если мы верим, что мы – Церковь Христова, Христос нас не оставит, и мы должны сами говорить о наших проблемах, делать это с сердечной болью и желанием преобразить церковную жизнь. Иначе это будут делать наши недруги, но не для того, чтобы улучшить церковную жизнь, а чтобы дискредитировать Церковь и уничтожить её.