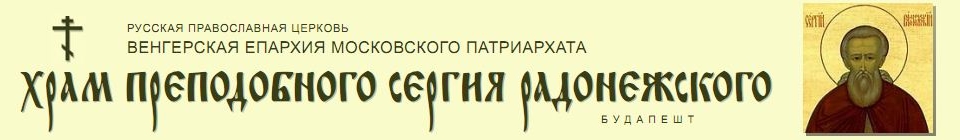ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА
ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ
РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
ПЛАН ПРОЕЗДА
О ПРИХОДЕ
СЛОВО НАСТОЯТЕЛЯ
СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ
ЖИЗНЬ В ЦЕРКВИ
ХРИСТИАНСТВО
В ВЕНГРИИ
ПРАВОЛСЛАВНАЯ
МИССИЯ В МИРЕ
НАШЕ ПРОШЛОЕ
И НАСТОЯЩЕЕ
МУЧЕНИКИ
И ИСПОВЕДНИКИ
ХРИСТИАНСКИЕ ПРАВЕДНИКИ
ЦЕРКОВЬ
И ГОСУДАРСТВО
СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
ВОСПОМИНАНИЯ
И ДНЕВНИКИ
ВСЕХ ИХ СОЗДАЛ БОГ
СОВЕТЫ ВРАЧА
БИБЛИОТЕКА
СТРАНИЦА РЕГЕНТА
ФОТОГАЛЕРЕИ
ВИДЕО
ДУХОВЕНСТВО ХРАМА
НАШИ РЕКВИЗИТЫ
КОНТАКТЫ
ССЫЛКИ
Художник Константин Коровин о жизни в России после революции
Знаменитый русский живописец и театральный художник Константин Алексеевич Коровин после революции 1917 года некоторое время прожил в России: занимался вопросами сохранения памятников искусства, организовал аукционы и выставки в пользу освободившихся политзаключённых, продолжал сотрудничать с театрами. С 1918 года он жил в имении Островно Вышневолоцкого уезда Тверской губернии, преподавал в свободных государственных художественных мастерских на даче «Чайка». В 1923 году художник по совету А.В. Луначарского выехал за границу и поселился во Франции. О времени, которое он провел в Советской России, живописец, обладавший к тому же немалым литературным даром, оставил очень живые, яркие, образные заметки в своем дневнике. Публикуем на «Избранном» некоторые из них.
Один взволнованный человек говорил мне, что надо все уничтожить и все сжечь. А потом все построить заново.
— Как, — спросил я, — и дома все сжечь?
— Конечно, и дома.
— А где же вы будете жить, пока построят новые?
— В земле, — ответил он без запинки.
Странно тоже, что в бунте бунтующие были враждебны ко всему, а особенно к хозяину, купцу, барину, и в то же время сами тут же торговали и хотели походить на хозяина, купца и одеться барином.
Один коммунист, Иван из совхоза, увидел у меня маленькую коробочку жестяную из-под кнопок. Она была покрыта желтым лаком, блестела. Он взял ее в руки и сказал:
— А все вы и посейчас лучше нашего живете.
— Но почему? — спросил я. — Ты видишь, Иван, я тоже овес ем толченый, как лошадь. Ни соли, ни сахару нет. Чем же лучше?
— Да вот, вишь, у вас коробочка-то какая.
— Хочешь, возьми, я тебе подарю.
Он, ничего не говоря, схватил коробочку и понес показывать жене.
Во время так называемой революции собаки бегали по улицам одиноко. Они не подходили к людям, как бы совершенно отчуждавшись от них. Они имели вид потерянных и грустных существ. Они даже не оглядывались на свист: не верили больше людям. А также улетели из Москвы все голуби.
Были дома с балконами. Ужасно не нравилось проходящим, если кто-нибудь выходил на балкон. Поглядывали, останавливались и ругались. Не нравилось. Но мне один знакомый сказал:
— Да, балконы не нравятся. Это ничего — выйти, еще не так сердятся. А вот что совершенно невозможно: выйти на балкон, взять стакан чаю, сесть и начать пить. Этого никто выдержать не может. Летят камни, убьют.
Учительницы сельской школы под Москвой, в Листвянах, взяли себе мебель и постели из дачи, принадлежавшей профессору Московского университета. Когда тот заспорил и получил мандат на возвращение мебели, то учительницы визжали от злости. Кричали: «Мы ведь народные учительницы, на кой нам чёрт эти профессора! Они буржуи!».
Я спросил одного умного комиссара: «А кто такой буржуй, по-вашему?» Он ответил: «Кто чисто одет».
Деревня Тюбилки взяла ночью все сено у деревни Горки. В Тюбилке сто двадцать мужиков, а в Горках тридцать.
Я говорю Дарье, которая из Тюбилок, и муж ее солидный, бывший солдат:
— Что же это вы делаете? Ведь теперь без сена к осени весь скот падет не емши в Горках.
— Вестимо, падет, — отвечает она.
— Да как же вы это? Неужто и муж твой брал?
— А чего ж, все берут.
— Так как же, ведь вы же соседи, такие же крестьяне. Ведь и дети там помрут. Как же жить так?
— Чего ж… Вестимо, все помрут.
Я растерялся, не знал, что и сказать:
— Ведь это же нехорошо, пойми, Дарья.
— Чего хорошего. Что уж тут… — отвечает она.
— Так зачем же вы так.
— Ну, на вот, поди… Все так.
Что бы кто ни говорил, а говорили очень много, нельзя было сказать никому, что то, что он говорит, неверно. Сказать этого было нельзя. Надо было говорить: «Да, верно». Говорить «нет» было нельзя — смерть. И эти люди через каждое слово говорили: «Свобода». Как странно.
Один латыш, бывший садовник-агроном Штюрме, был комиссар в Переяславле. Говорил мне:
— На днях я на одной мельнице нашел сорок тысяч денег у мельника.
— Где нашли? — спросил я.
— В сундуке у него. Подумайте, какой жулик. Эксплуататор. Я у него деньги, конечно, реквизировал и купил себе мотоциклетку. Деньги народные ведь.
— Что же вы их не отдали тем, кого он эксплуатировал? — сказал я. Он удивился:
— Где же их найдешь. И кому отдашь. Это нельзя… запрещено… Это будет развращение народных масс. За это мы расстреливаем.
Больше всего любили делать обыски. Хорошее дело, и украсть можно кое-что при обыске. Вид был у всех важный, деловой, серьезный. Но если находили съестное, то тотчас же ели и уже добрее говорили:
— Нельзя же, товарищ, сверх нормы продукт держать. Понимать надо. Жрать любите боле других.
При обыске у моего знакомого нашли бутылку водки. Её схватили и кричали на него: «За это, товарищ, к стенке поставим». И тут же стали её распивать. Но оказалась в бутылке вода. Какая разразилась брань… Власти так озлились, что арестовали знакомого и увезли. Он долго просидел.
Коммунисты в доме Троцкого получали много пищевых продуктов: ветчину, рыбу, икру, сахар, конфеты, шоколад. Зернистую икру они ели деревянными ложками по килограмму и больше каждый. Говорили при этом:
— Эти сволочи, буржуи, любят икру.
Весь русский бунт был против власти, людей распоряжающихся, начальствующих, но бунтующие люди были полны любоначалия: такого начальствующего тона, такой надменности я никогда не слыхал и не видал в другое время. Это было какое-то сладострастие начальствовать и только начальствовать.
Тенор Собинов, всегда протестовавший против директора Императорских театров Теляковского, сам сделался директором Большого оперного театра. Сейчас же заказал мне писать с него портрет в серьезной позе. Портрет взял себе, не заплатив мне ничего. Ясно, что я подчиненный и должен работать для директора. Просто и правильно.
Ехал в вагоне сапожник и говорил соседям:
— Теперь сапожки-то, чего стоят. Принеси мне триста тысяч, да в ногах у меня поваляйся — сошью, а то и нет. Во как нынче.
На рынке в углу Сухаревой площади лежала огромная куча книг, и их продавал какой-то солдат. Стоял парень и смотрел на кучу книг. Солдат:
— Купи вот Пушкина.
— А чего это?
— Сочинитель первый сорт.
— А чего, а косить он умел?
— Нет… Чего косить… Сочинитель.
— Так на кой он мне ляд.
— А вот тебе Толстой. Этот, брат, пахал, косил, чего хочешь.
Парень купил три книги и, отойдя, вырвал лист для раскурки.
Староста-ученик, крестьянин, говорил на собрании:
— Вот мастер придет в мастерскую, говорит все, что хочет, и уйдет, а жалованье получает. А что из этого? Положите мне жалованье, я тоже буду говорить, еще больше его.
Ученики ему аплодировали, мастера молчали.
В Школу живописи в Москве вошли новые профессора и постановили: отменить прежнее название. Преподавателей называть мастерами, а учеников подмастерьями, чтобы больше было похоже на завод или фабрику. Самые новые преподаватели оделись, как мастера, надели черные картузы, жилеты, застегнутые пуговицами до горла, как у разносчиков, штаны убрали в высокие сапоги, все новое. Действительно, были похожи на каких-то заводских мастеров.
Я увидел, как профессор Машков доставал носовой платок. Говорю ему:
— Это не годится. Нужно сморкаться в руку наотмашь, а платки — это уж надо оставить.
Он свирепо посмотрел на меня.
Был жетон: «Да укрепится свобода и справедливость на Руси».
Я получил бланк. Бланк этот был напечатан после долгих и многих обсуждений Всерабиса (Всесоюзный профессиональный союз работников искусств). В графах бланка значилось:
Размер.
Какой материал.
Холст, краски, стоимость его.
Время потраченного труда.
Подпись автора.
Цена произведения определялась отделом Всерабиса.
В Школе живописи мастера и подмастерья. Все было хорошо, но с подмастерьем было трудно. Их работу надо было расценивать. Трудно было вводить справедливость. Трудно. Кто сюпрематист, кто кубист, экс-импрессионист, футурист — трудно распределить. Что все это стоит, по аршину или как ценить? Да еще на стене написано: «Кто не работает, тот не ест». А есть вообще нечего было. А справедливость надо вводить.
У Всерабиса и мастеров ум раскорячивался, как они говорили. Заседания и денные, и ночные. Постановления одни вышибали другие. Трудно было, один предлагал то, а другой совсем другое. И притом жрать хочется до смерти. Вот как трудно вводить справедливость и равенство. Все ходили измученные, бледные, отрепанные, неумытые, голодные. Но все же горели энергией водворить так реформы, чтобы было как можно справедливее.
И их души не догадывались, что главная потуга их энергии — это было не дать другим того, что они сами не имеют. Как успокоить бушующую в себе зависть? А так как она открылась во всех, как прорвавшийся водопад, то в этом сумасшедшем доме нельзя было разобрать с часу на час и с минуты на минуту, что будет и какое постановление справедливости вынесут судьи.
Странно было видеть людей, охваченных страстью власти и низостью зависти, и при этом уверенно думающих, что они водворяют благо и справедливость.