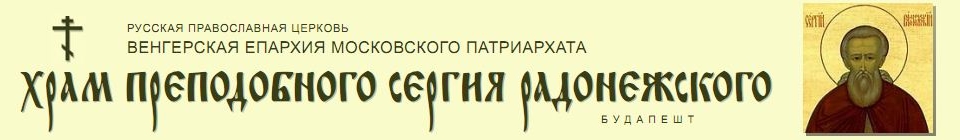ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА
ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ
РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
ПЛАН ПРОЕЗДА
О ПРИХОДЕ
СЛОВО НАСТОЯТЕЛЯ
СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ
ЖИЗНЬ В ЦЕРКВИ
ХРИСТИАНСТВО
В ВЕНГРИИ
ПРАВОЛСЛАВНАЯ
МИССИЯ В МИРЕ
НАШЕ ПРОШЛОЕ
И НАСТОЯЩЕЕ
МУЧЕНИКИ
И ИСПОВЕДНИКИ
ХРИСТИАНСКИЕ ПРАВЕДНИКИ
ЦЕРКОВЬ
И ГОСУДАРСТВО
СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
ВОСПОМИНАНИЯ
И ДНЕВНИКИ
ВСЕХ ИХ СОЗДАЛ БОГ
СОВЕТЫ ВРАЧА
БИБЛИОТЕКА
СТРАНИЦА РЕГЕНТА
ФОТОГАЛЕРЕИ
ДУХОВЕНСТВО ХРАМА
НАШИ РЕКВИЗИТЫ
КОНТАКТЫ
ССЫЛКИ
Алексей Беглов: Мать Игнатия была ногами, мать Мария – глазами. Так и добирались до храма
Историк подсоветской Церкви - о своем общении с тайной монахиней и биологом с мировым именем, о разных аспектах жизни христиан в СССР
Михаил Боков
Алексей Беглов – специалист по истории советского церковного подполья. Специально для «Правмира» он рассказал, какой была в быту монахиня Игнатия (Пузик), постриженная тайно в конце 20-годов и ставшая крупным ученым в Советском Союзе, почему тайному монашеству не нравились бороды и длинные юбки, и как в начале 90-х зарождалась православная субкультура в МГУ.
Подполье
– Алексей Львович, как получилось, что вы начали изучать историю советского периода Русской Православной Церкви?
– Это было такое время, конец 80-х, когда история была довольно популярной специальностью – наверное, единственный раз за сто лет. Что касается церковной темы, то здесь все сошлось в результате случайных и неслучайных встреч. Через общение с конкретными людьми, возникли сюжеты истории Церкви XX века.
– А что это были за люди? Вы не могли бы подробнее рассказать об этих встречах?
– Это были просто старые прихожане и прихожанки московских храмов. Потом уже, в процессе общения, нам открывалось, что некоторые из них были в тайном постриге и, так или иначе, являлись носителями московской церковной традиции. Причем, традиции, ведущей еще в 20-е годы.
Первоначально это было просто живое общение. Только потом в процессе мы – я и другие юноши и девушки, которые с ними общались – понимали, что тоже можем быть чем-то им полезны. Из этого понимания появлялись какие-то публикации, работы.
Вначале речь шла об их духовных руководителях, историях и сюжетах, в основном связанных с московским Высоко-Петровским монастырем. Это были их собственные тексты и тексты, основанные на их воспоминаниях. Так лично для меня рождалось занятие церковной историей.
Это был такой период, когда история Церкви рождалась, выкристаллизовывалась как совершенно новое исследовательское направление.
До середины 90-х она существовала только как официальная учебная дисциплина в семинариях и духовных академиях. Понятно, что еще в конце советского периода на нее накладывались определенные ограничения цензурного характера – в том числе, и ограничения по доступу к документам; архивы были еще недоступны. Но параллельно существовала другая тенденция и другие люди.
При советской власти существовали светские ученые, которые стремились заниматься историей Церкви в своих исследовательских институтах, в академии наук, в университете. Прежде всего, это были «медиевисты» – те, кто занимался Средними веками.
И первым нужно назвать ныне покойного Ярослава Николаевича Щапова. Он всю жизнь занимался историей русского канонического права, сейчас эту тему продолжают его ученики. Были и другие ученые такого же крупного масштаба. Николай Николаевич Покровский в Сибири, который занимался как бы историей народного антифеодального протеста, как это трактовалось тогда, но на самом деле это было изучение народных религиозных движений – связанных и не связанных со старообрядчеством.
Собственно, на рубеже 80-90-х годов, это направление светской церковной истории достаточно активно обретало институциональные рамки. Были созданы первые центры истории религии и Церкви – в Институте российской истории Академии наук, потом – в Институте всеобщей истории, позже – кафедра на истфаке МГУ.
Поэтому когда наш локальный интерес к таким сюжетам выходил уже на профессиональный уровень, когда мы переходили к осмыслению проблем истории Церкви, то среда для нас уже была готова. Мы попадали в среду, где уже существовали определенные наработки и методики.
– Но первым толчком – как вы сказали – были встречи с носителями информации. Как вы выходили на очевидцев событий церковной истории XX века?
– В приходской среде всегда были люди, которые осуществляли связь поколений, которые подталкивали совсем молодых ребят к знакомству со старшими – теми, кому было сильно за 70, а иногда под 90. В моем случае, очень важную роль сыграл отец Глеб Каледа. Он стал как бы мостиком от молодого поколения к старшему, представлял из себя некое связующее звено.
Отец Глеб считал, что живое общение со старшим поколением – необходимо. У него были контакты этих людей, и он говорил: «Нужно позвонить такому-то человеку и поехать, поговорить с ним». Может быть, у него было какое-то ощущение, что эти разговоры вырастут во что-то большее. И потом это ощущение сложилось и у нас: ощущение, что эти разговоры, рассказы, воспоминания – они должны быть зафиксированы.
– Насколько охотно очевидцы делились с вами информацией? Ведь многие из этих людей прошли ссылки, репрессии, период подполья.
– Мы далеко не сразу оказались допущены и приобщены к тайне их монашества и к тайне определенных документов, которые они хранили. Но в рассказах об истории, о своих духовных отцах, об эпохе, об иерархах, с которыми им приходилось встречаться, эти люди были достаточно откровенны и не боялись. Потом – так как наше общение продолжалось – они раскрывались нам уже с другой стороны – со стороны своего личного подвига и своей тайны.
И вот, что нужно сказать. Самое старшее поколение, поколение, приходившее в Церковь в 20-30-е годы – оно оказалось в итоге самым открытым и бесстрашным. Оно не было запугано, даже пройдя через все. И даже среднее поколение, по сравнению с ними, казалось гораздо более закрытым.
Матушки 1900-1910 годов рождения признавались: эпоха 30-х годов, предвоенное время было эпохой тотального ужаса. Это видно даже на их фотографиях того времени, на их лицах видна печать определенного гнета. Но они как-то смогли это преодолеть. Они вынесли и сохранили цельность, открытость и даже жизнерадостность.
Матушка Игнатия
– Какие встречи произвели на вас наиболее сильное впечатление?
– Здесь сложно говорить о каком-то впечатлении – в этом слове есть элемент одномоментного эмоционального воздействия. А последствия этих встреч – они были пролонгированы во времени. Они определили мой и не только мой круг общения, наш духовный и интеллектуальный облик, наш путь. Это было такое долговременное влияние на всех нас.
В первую очередь, нужно назвать схимонахиню Игнатию (Пузик). К концу 90-х годов она была очень заметной фигурой. Вокруг нее сформировалось несколько кругов. Тот круг, который она называла Петровским – пришедший из Высоко-Петровского монастыря, из его прихожан, к нему принадлежал и я.
Круг, который соприкасался с ней в храме Пимена Великого в Новых Воротниках, куда она ходила в последние годы жизни и где даже преподавала в воскресной школе. У нее были там почитатели и духовные дети. И потом был, безусловно, круг, связанный с ее работой – круг медиков, которые через общение с ней в той или иной степени коснулись духовной жизни Церкви.
– Вы были для нее совсем молодое, новое и другое поколение. Как происходило общение между вами?
– Нас воспринимали очень серьезно – и это была такая важная черта их круга. Все было всерьез, хотя исследовательская тема тогда еще была вспомогательной в нашем общении, когда мы приходили, это совсем не имелось в виду.
Понятно, что матушка Игнатия лидировала в нашем общении. Она задавала ему некоторый вектор и говорила о том, что считала нужным нам предложить – говорила об отцах, о самой эпохе.
Но, в то же время, она всегда активно откликалась на наши вопросы. Например, была целая серия бесед о патриархах 40-х годов Сергии и Алексии I. С патриархом Алексеем она общалась, с патриархом Сергием нет, но это была очень интересная зарисовка этой эпохи – и она начиналась по нашей инициативе.
Кроме того, со стороны матушки Игнатии всегда предполагалась определенная доля руководства. В работах Василия Экземплярского о старчестве есть такое наблюдение: в раннюю, еще египетскую эпоху старец воспитывал не только наставлениями и ответами на вопросы, но и собственной жизнью. Что предполагало очень тесное общение с ним, сожительство с ним.
Для матушки Игнатии такой ход вещей был естественным. В их тайных монашеских общинах так оно и было. С течением времени сложилось так, что выжившие члены общин, как правило, жили парами. В паре был некий старший человек и был младший. Матушка Игнатия жила с матушкой Марией, которая была как раз из «поколения маленьких», была младше ее на одиннадцать лет. И у них это было наставничество в течение жизни, когда сам быт проникался монашеским деланием.
То же и с ее кругом из лаборатории, которой она руководила. Сама матушка Игнатия очень заботилась о том, чтобы ее сотрудники не были «дикими» в духовном плане, в плане кругозора.
Мы у нее спрашивали, как она их воспитывала, и она отвечала: «Конечно, я не могла давать им читать святых Отцов, но я рекомендовала им читать художественную литературу, особенно зарубежную. Я их просила подписаться на журнал “Иностранная литература” и читать ее».
Она полагала, что в западной литературе XX века затрагивались такие проблемы – глубоко психологические, на грани аскетики, интересно высвеченные – до которых русская литература того времени не дотягивала. Видимо, потому, что на Западе об этих проблемах можно было говорить.
И вот намекала, подталкивала свои сотрудников к ощущению реальности другой жизни. У нее остались записки, которые отражают духовное руководство ее сотрудниками через чтение современной им зарубежной литературы.
– А сама матушка Игнатия какую литературу читала? Вообще, насколько в ходу была религиозная литература в советское время, как ее доставали?
– Конечно, очень активно действовал церковный самиздат – у самой матушки, у ее сестер, сохранилось много оттуда. Здесь была старая литература, дореволюционная – они ее перепечатывали или переписывали вручную. У разных сестер Петровской общины я видел самые разные, скажем так, памятники самиздата.
Были письма Ивана Ивановича Троицкого, очень интересного духовного наставника XIX века, изданные еще до революции, но потом недоступные. У матушки лежал обычный блокнотик, а внутри был текст этих писем, машинописный. Были и рукописные тексты. Эта литература в их кругу существовала, тиражировалась, распространялась. И когда матушка считала возможным кого-то допустить ближе к проблемам духовной жизни, то она давала эти книги читать.
Кроме того, она сама писала записки, духовные размышления. Они были не мемуарного характера, а на разные темы. Насколько я знаю, для некоторых людей эти записки были следующей ступенью в постижении духовной жизни после зарубежной литературы. Видимо, последовательность была такая.
Знакомство с азами духовной жизни через зарубежную литературу, потом какая-то конкретизация через записки самой матушки Игнатии – причем, я так понимаю, они не сразу знали, что это ее тексты – и следующий этап, когда она могла давать им уже святоотеческую литературу.
– Какова была матушка Игнатия в быту?
– Это был монашеский быт в условиях московской квартиры. Простая двушка в сталинском доме с очень маленькой кухней в районе Беговой. Хотя она ей была дана как видному ученому, но это не была профессорская квартира в общепринятом понимании этого слова.
Они жили там вдвоем – матушка Мария и матушка Игнатия. В этот период матушке Игнатии уже было за 90, но физически она была еще крепким человеком. И, главное, было ясным ее сознание. Я думаю, духовное деланье и вместе интеллектуальное деланье дали абсолютно трезвый аналитический ум, который сохранился до конца ее жизни – ум, не затронутый старческими болезненными явлениями.
С конца семидесятых у нее было очень плохое зрение. Она уже в конце семидесятых – начале восьмидесятых перенесла несколько операций на глазах. К началу 90-х она была практически слепая. Это ограничивало ее в передвижении, и было для нее большим испытанием, потому что она не могла выйти в церковь, когда хотела.
Она ездила в храм на Ваганьково и в храм Пимена в Новых Воротниках. До тех пор, пока матушка Мария двигалась достаточно активно – потому что у нее наоборот были больные ноги – они могли друг друга транспортировать до церкви. Матушка Мария служила глазами, а матушка Игнатия ногами.
– Когда открылся факт тайного пострига и тайного монашества матушки Игнатии?
– Это довольно сложная история, потому что до конца жизни матушка Игнатия не хотела заявлять себя в широкой публичной сфере как монахиню. Ей было совершенно понятно, что монашество ширится – к ней приходили люди из монастырей, которые открывались, из Москвы, с Урала, из женской Зосимовой пустыни к югу от Москвы. Этим людям она была известна, как монахиня. Но в публичной сфере она не считала возможным презентовать себя монахиней.
Таково было ее условие: все ее публикации на религиозную тематику должны были выходить под псевдонимом. Она подписывалась как «монахиня Игнатия», но фамилию ставила «Петровская», а не «Пузик».
– Насколько это была типичная история? Монастыри стали открываться и те люди, которые принимали тайный постриг, для них, таким образом, открывалась возможность «легализоваться». И если матушку Игнатию, возможно, держали от ухода в монастырь ее статус, ее имя в науке, то, что происходило с другими людьми?
– Насколько я знаю, мало кто из монахинь, имевших тайный постриг, закончил свою жизнь в монастырях. Каждый раз это были индивидуальные случаи, не всегда однозначные. Обычно, большая часть людей оставались в том статусе, который был – в статусе «домашнего монастыря».
Почему? Сложный момент. Прежде всего, вероятно, имел место бытовой вопрос. Открывавшиеся монастыри не всегда могли принять настолько престарелых монахинь, которые требовали ухода. При этом у самих монахинь был сформирован круг и духовного, и человеческого общения, от которого они не могли отказываться.
С другой стороны, нужно понимать, что все монастыри, которые открывались, это были совершенно другие монастыри, монастыри другой традиции, нежели те, из которых вышли тайные монахини. И это к ним приходили учиться, узнать, как это должно быть, монахи новых монастырей. Поэтому во многих случаях вопрос ухода даже не стоял.
И, наконец, есть еще такой момент: матушки были достоянием всей Церкви, а не какого-то одного монастыря. С ними обращались монашествующие женских и мужских монастырей.
Другая матушка, мать Серафима, с которой мы тоже тесно общались, которая была последней из того первого поколения Петровских сестер, она в итоге была похоронена в Оптиной пустыни. Отцы Оптинские сказали, что для них это будет честь — принять ее могилку на своем кладбище.
МГУ и новая православная субкультура
– Вы пришли учиться в МГУ в первой половине 90-х годов. Насколько был интерес к воцерковлению тогда в студенческой среде, и каковы в целом были настроения в университете в то время?
– Интерес был очень большой, но для нас, для многих студентов, приход в духовную жизнь и Церковь, случился еще до университета – через какую-то встречу или в силу внутренней духовной эволюции.
Мы поступали в 91-м году. Это был последний советский набор университета, и мы даже успели поработать на картошке уже после падения ГКЧП – это была последняя студенческая картошка в истории СССР. Вообще, этот промежуток времени – 88-91 годы был отмечен настоящей вспышкой интереса к православию, к религиозным вопросам. Вспышка была как у каждого лично, так и всеобщая, историческая.
Конечно, на первых курсах мы как-то маркировали себя, показывали свое отношение к Церкви. Но, в основном, речь шла не о внешних атрибутах, а о выражении своих идей. Мы были готовы вступать в дискуссию, отстаивать какие-то свои концепции. И параллельно существовали другие люди, носители, условно говоря, «новой православной субкультуры»: они демонстративно носили бороды, платки, длинные юбки, обвисшие такие свитера.
У меня был однажды интересный диалог с матушкой Серафимой. Она вспоминала 70-е годы, что-то рассказывала, и в заключение произнесла такую фразу: «Тогда в первый раз в Церкви появились вот эти, в длинных юбках, которые все поклоны метали». Я ее спрашиваю: «Что Вы говорите? Когда они появились?». И она отвечает: «Как когда? В семидесятых! Пришли и стояли толпами. И в платках все были».
Для матушки, которая была воспитана на правилах очень жесткой маскировки (всю жизнь тайные монахини носили нейтральную одежду, носили не платки, а беретки или тонкие косынки) это было непонятно. Потому что для людей, которые прошли через реально опасное время, это выглядело как бравада, немножко как искушение Господа Бога, а с точки зрения духовной жизни это недопустимо.
– Как преподавательский состав МГУ начала 90-х относился к верующим студентам?
– Во-первых, надо понимать, что среди преподавателей тоже были православные. Они не всегда это афишировали, но мы в процессе жизни и занятий это понимали, узнавали друг друга. Очень часто даже не произносилось никаких паролей. Никто не уточнял, ничего не говорилось, просто становилось понятно.
– А каким образом это становилось понятно?
– Например, на втором курсе у нас была преподаватель литературы. То, что она человек православный стало ясно по тому, как обсуждались те или иные произведения. В их осмысление всегда привносилась евангельская перспектива. Без произнесения этих слов. И мы это узнавали.
Такие преподаватели были на всех факультетах. И каждый раз православное начало распознавалось в них не через открытые словесные манифестации, а через особую оптику, через их взгляд на предметы их профессионального интереса. Причем, этот взгляд всегда был высоко профессионален.
– Среди студентов в начале 90-х, вероятно, появились люди самых разных религиозных взглядов. Между вами возникали какие-то пикировки и разногласия?
– С нами училось некоторое количество протестантов, и моменты общения с ними лично для меня были очень интересны. На примере этого общения было видно, насколько по-разному на предметы своей веры смотрят христиане разных направлений.
На филологическом факультете (который я заканчивал) был симпатичный, глубокий молодой человек из новых баптистов. Мы с ним общались по разным поводам. В том числе, я ему дарил самиздатские проповеди отца Глеба Каледы.Среди них была замечательная проповедь, где с позиций геолога с опытом экспедиций в Среднюю Азию описывались испытания, перенесенные Спасителем при путешествиях по Святой Земле. Эти испытания в этой проповеди наполнялись абсолютной реальностью, и в конце проповеди говорилось, что нам нужно приложить усилия, чтобы быть искупленными Его кровью.
Мой товарищ этого не понял: «Почему “быть искупленными”? Почему он так говорит? Мы уже искуплены и спасены!». Из этого мне стало понятно, как протестантское религиозное сознание отличается от православного. И если для православного свойственно понимание того, что необходимы усилия – потому что Царствие Небесное берется усилиями, нужно войти во Спасение каждому из нас, то для них это было непонятно. Для меня это был самый важный момент из общения со студентами-протестантами.
Осмысление смыслов
– Какие факты в истории русской Церкви XX века вас наиболее впечатляют как исследователя?
– Я могу вам сказать, что меня удивляет. Я сейчас на некоторое время отошел от изучения советского периода и много занимаюсь историей приходской реформы перед революцией 1917 года. И меня – как человека, который работал с советским материалом, а потом перешел на синодальный период – не перестает поражать одно обстоятельство. Его можно определить так – инертность государственного и церковного организма поздней империи. Для меня это было отчасти потрясением.
В Церкви накануне революции были сконцентрированы мощнейшие интеллектуальные, духовные и организационные силы. Но все они не смогли сдвинуть с мертвой точки даже один вопрос церковной реформы – вопрос о реформе прихода.
Вопрос этот стоял десятилетиями. К нему было приковано внимание всех людей, от которых что-то зависело. Император несколько раз лично давал указания форсировать решение этого вопроса. Но его так и не решили. Хотя, между 1906 и 1917-м годом было создано не менее семи проектов приходского устава.
При этом совершенно очевидно, что не было внешних факторов, которые помешали бы провести приходскую реформу. Были только внутренние противоречия. Это очень трагическая история, которая меня поразила.
– Сложность изучения истории Церкви XX века состоит в том, что деятели этой эпохи часто действовали под давлением. Как исследователю сохранить объективность под большим пластом противоречивой информации и документов?
– История советского периода требует от нас от всех очень высокого профессионализма, потому что, действительно, здесь нужно иметь в виду разные факторы. На источники ни в коем случае не должно быть лобовой атаки. Вместо этого должна быть скрупулезная попытка понять, с чем мы имеем дело.
Понятно, что документальный пласт не во всем нам доступен. Но должно иметь место максимально широкое изучение документов, которые есть. Чем больше мы знаем материала, который прошел через источниковедческую критику, который опознан как более или менее достоверная фактура – тем больше мы можем делать выводов о действиях конкретных лиц и об обстоятельствах, в которых они действовали.
Еще десять лет назад мы все обсуждали интервью митрополита Сергия (Страгородского), данное им советским и иностранным корреспондентам в 1930 году (Прим. Авт. – в этом интервью от лица митрополита Сергия, в числе прочего, было сказано, что церкви в Советском Союзе закрывают по желанию населения, а сведения о репрессиях священнослужителей – это ложь).
И хотя было понятно, что интервью фальсифицировано, мы все исходили из того, что был какой-то исходный текст, его текст. Исходя из этого, все гадали: какая подоплека стояла за словами Сергия, что он в реальности в эти слова вкладывал? Каждый предлагал свою интерпретацию.
И мы могли бы дальше долго обсуждать этот сюжет, если бы в один прекрасный момент историк Игорь Александрович Курляндский не обнаружил в Архиве президента РФ оригинал этого интервью. Из него следовало, что весь текст от начала до конца был написан тремя лицами – Ярославским, Сталиным и Молотовым.
Таких сюжетов в истории XX века очень много. И я вижу, как меняется отношение моих коллег к ним. Меняется по мере того, как они все больше погружаются в реальные документы и все больше понимают, как реально обстояли дела.
Некоторые историки радикально писали о действиях Русской Церкви на оккупированных территориях во время Великой Отечественной войны – писали, что все священники, служившие при немцах, были предателями-коллаборационистами.
Но чем больше мы осмысляем документальный материал, чем больше мы его осваиваем, тем больше мы понимаем, что все было не так просто. И когда мы все вместе с разных точек зрения рисуем панораму жизни Церкви, мы многое понимаем в действиях людей той эпохи. Мы понимаем, что они могли пойти на многое.
И то, что сейчас нам кажется безрассудным или предосудительным, в их ситуации имело совсем другой смысл.
Поэтому, мне кажется, здесь, как никогда, важно проникнуть во внутреннюю мотивацию людей ХХ века.
Источник: http://www.pravmir.ru/aleksey-beglov-mat-ignatiya-byila-nogami-mat-mariya-glazami-tak-i-dobiralis-do-hrama/#ixzz31fuKscyo