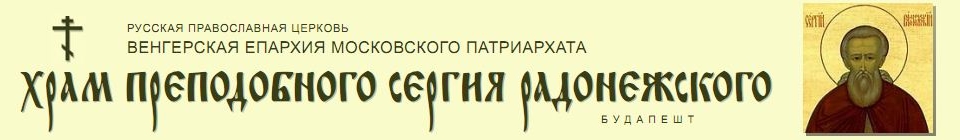ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА
ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ
РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
ПЛАН ПРОЕЗДА
О ПРИХОДЕ
СЛОВО НАСТОЯТЕЛЯ
СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ
ЖИЗНЬ В ЦЕРКВИ
ХРИСТИАНСТВО
В ВЕНГРИИ
ПРАВОЛСЛАВНАЯ
МИССИЯ В МИРЕ
НАШЕ ПРОШЛОЕ
И НАСТОЯЩЕЕ
МУЧЕНИКИ
И ИСПОВЕДНИКИ
ХРИСТИАНСКИЕ ПРАВЕДНИКИ
ЦЕРКОВЬ
И ГОСУДАРСТВО
СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
ВОСПОМИНАНИЯ
И ДНЕВНИКИ
ВСЕХ ИХ СОЗДАЛ БОГ
СОВЕТЫ ВРАЧА
БИБЛИОТЕКА
СТРАНИЦА РЕГЕНТА
ФОТОГАЛЕРЕИ
ДУХОВЕНСТВО ХРАМА
НАШИ РЕКВИЗИТЫ
КОНТАКТЫ
ССЫЛКИ
Память о войне: источник патриотизма или объект манипуляций?
Историческое знание как никакое другое подвержено идеологическому искажению. 75 лет прошло со дня начала Великой Отечественной войны, но до сих пор мы не знаем всей правды о тех страшных годах, да и узнаем ли когда-нибудь? О том, что такое политика памяти, идеология истории, глорификация войны, воспитание патриотизма через историческую память мы беседуем с доктором исторических наук, профессором кафедры всеобщей истории РГПУ им А.И. Герцена Юлией Кантор.
Политика памяти: правда уничтожалась или сдавалась в спецхран
– Память о войне – люди по-разному понимают, что это такое, даже среди тех, кто обязан эту память хранить, нет единомыслия…
– Память – это ощущение, а не исторический набор фактов. Поэтому ею можно манипулировать – это совершенно естественно. Да и набором фактов тоже, увы… Есть понятие «политика памяти» – формально оно вошло в исторический и политический обиход в 80-е годы, но это не значит, что политики памяти не было раньше.
Мне недавно попалось неизвестное до тех пор словосочетание – идеология истории. Это то, что было у нас – и это касается не только темы войны, а касается всего советского периода, когда идеологией и идеологическими мифологемами подменялось само понятие исторического факта и исторического знания. Возникали подмены – как раз, например, касательно Великой Отечественной войны, – когда официальная точка зрения наслаивалась на фрагменты личных ощущений и личного знания.
Что касается ментальных реконструкций памяти о войне в послевоенных поколениях – я довольно долгое время занималась в архивах Екатеринбурга и Свердловской области изучением документов, касающихся пребывания Эрмитажа в этом городе, и документов, касающихся войны. Как формировалось онлайн-пространство памяти? – Через общение власти и музеев: какие нужно было делать экспозиции, что нужно было в них использовать – именно во время Великой Отечественной войны. Например, нельзя было в период с 1941 по 1943 годы использовать единые карты, потому что мы отступали. Это могло при сопоставлении привести к «паникерским настроениям».
Еще практиковался такой ход, который мы называем сейчас устной историей: записи тех, кто был в партизанском движении, под оккупацией, кто был на фронтах и находился в госпиталях на излечении – это записывалось, но либо уничтожалось, либо поступало в спецхран. Потому что всё, что подлежало публикации, нуждалось в официальном разрешении цензуры. Всё, что могло вербально иллюстрировать свидетельскими впечатлениями какие-либо актуальные экспозиции о войне, обязательно проходило контроль. В итоге нередко люди были вынуждены подписывать или написанное за них, или поправленное цензурой.
К счастью, некоторое количество такого рода дневников, воспоминаний, записей сохранилось в архивах музеев бывших спецхранов, с которыми теперь можно работать. Это относится и к дневникам периода блокады Ленинграда – огромное количество публикаций в последнее время вышло в свет. Есть целая серия, вышедшая в петербургском Институте истории РАН: «Доживем ли мы до тишины?», «Я не сдамся до последнего», «Человек на войне», огромный том «Ленинградцы» – туда попали дневники самых разных людей, начиная от глубоко верующих – бывших сестер милосердия Первой мировой, и под ту же обложку попали дневники ленинградского цензора: и они схожи, потому что человеческое раскрывается в самые кризисные моменты. Именно поэтому это так интересно и так страшно читать.
– Удивительно, как люди не боялись вести дневники…
– Боялись. И прятали. Как раз в дневниках есть эти размышления: а что будет, если эти дневники найдут? Это не значит, что там было что-то такое сверхпессимистическое или крамольное: просто сам факт личного проявления чего-то в советское, тем более военное, время мог стоить и жизни тоже. Вспомним Ольгу Берггольц, которая хранила свой дневник всю жизнь, прятала его, боялась, особенно после предвоенного ареста, – и тем не менее эти дневники теперь опубликованы.
Там есть такие слова: «Как же довели до того, что Ленинград осажден, Киев осажден, Одесса осаждена… Не знаю, чего во мне больше – ненависти к немцам или раздражения, бешеного, щемящего, смешанного с дикой жалостью, – к нашему правительству… Это называлось: „Мы готовы к войне“. О сволочи, авантюристы, безжалостные сволочи!» Это лето 41-го – естественно, в советское время такое не могло быть опубликовано.
Глорификация: будто не было войны, а только победа
Что касается теперешнего времени в отношении рефлексии к памяти о войне – в последние годы всё больше сталкиваюсь (как историк, музейщик и просто человек) с усилением линии на глорификацию, на акцентирование темы победы, а не темы войны. Героическую сторону войны никак невозможно преуменьшить, но до победы была война. Страшная, тяжелая, разная… Сколько всего творилось, сколько жертв, сколько неизвестного, трагического.
Военнопленные, судьба пребывавших на оккупированной территории – в одном из фильмов режиссера Веры Глаголевой (никогда не бывшего в прокате у нас, показанного лишь на «Русских днях» в Каннах, в присутствии режиссера) то ли про лагерь, то ли про остров ссыльных (это убрано в подтекст) женщин, у которых родились дети в период войны на оккупированной территории. А с такой судьбой было огромное количество людей на северо-западе у нас – это и Карелия, и Ленинградская, Псковская, Новгородская области.
Есть много исследований о «вынужденной коллаборации» женщин – у нее муж на фронте, трое детей, она вынуждена обстирывать немцев, чтобы получить краюху хлеба – надо кормить детей. А кто-то сожительствует, у кого-то рождаются дети. И одна из главных героинь этого фильма говорит замечательную фразу нквдшнику, который их охраняет (и который, кстати, потом делает всё, чтобы их спасти, потому что их потом с этого острова должны отправить в лагеря и разлучить с детьми): «Вы защитить не смогли, так хоть пожалейте!»
Это еще одна трагедия, еще одна неизвестная тема: я встречалась с такими людьми, родившимися в 42-43-м годах, брала интервью, но очень сложно упросить их разрешить опубликовать это, даже безымянно: скольких потом дразнили «фашистами», «немцами» и «финнами» – ведь и финские части стояли в Ленинградской области. А сколько матери пострадали…
А тема советских военнопленных? На конференции, которую мы недавно делали совместно со Свердловским областным краеведческим музеем, одна из моих коллег на основе собственных исследований рассказывала: сколько было людей в плену в Гатчинском районе, совсем близко от Ленинграда, – там были страшные лагеря для военнопленных, с почти стопроцентной смертностью, которые нигде не увековечены, не помечены, которых и в списках нет, – и люди никаких льгот не имеют.
Кстати, только благодаря указу Ельцина в 1995 году люди, находившиеся в плену, были признаны ветеранами войны, – а до этого ведь мы жили по приказу товарища Сталина: нет пленных, а есть предатели. Очень многие после плена шли в наши лагеря, потому что не проходили так называемую фильтрацию.
Это тоже была запретная тема, но теперь она звучит, публикуется, хотя и она уходит сейчас на второй план, превращается в то, что теперь называется «Бессмертный полк» (идея-то хорошая, но во что она вырождается?): я сама видела, когда люди, пришедшие по разнарядке, – иногда устной, иногда письменной – оказываются в одной колонне с теми, кто пришел по велению души.
А потом – если вовремя не подошли «ответственные за портреты» – акция заканчивается, эти портреты сваливаются в кучу на тротуар – я видела это, и это чудовищно, это надругательство над исторической памятью. А еще мы все видим, ЧТО происходит с георгиевскими ленточками – на сумках, в девичьих прическах, на заляпанных бамперах дорогих машин, даже вместо шнурков в кроссовках… Это только мода, но не искреннее чувство…
Помнят не так, помнят негромко. Помните: «Может быть, про войну/ Слишком много и громко не надо,/ Чтобы ревом фанфар не спугнуть, не убить этот звук». День Победы – это действительно праздник «со слезами на глазах».
Нет единой исторической объективности – есть собирательный образ для реконструкции
– Память бывает застывшая в камне – памятники, или в учебниках (мы привыкли считать написанное в учебнике чуть ли не истиной в последней инстанции). Лишь с возрастом мы понимаем, что бывает другая память, не выкристаллизованная – дневники, живые воспоминания. Когда я впервые в 80-х годах прочитала «У войны не женское лицо», я почувствовала настоящие ужас и трагизм войны. Но у нынешнего поколения уже почти нет в живых прабабушек, которые могли бы что-то рассказать. В каких формах им транслировать эту память?
– Ну, мы же читаем книги, смотрим фильмы о войне 1812 года? Кстати, когда однажды я сказала эту фразу в одном выступлении как вводную, на меня сразу набросились: «Как вы можете сравнивать ту войну и эту?!» Но пройдет еще сто лет, и такой реакции уже не будет. Кстати, сравнивать – отнюдь не значит ставить знак равенства. Боязнь сравнений – тоже сродни цензуре. Ценность подлинного личного источника в такие периоды тем больше возрастает, чем дальше событие.
При этом не следует думать, что то, что сказано в воспоминании, дневнике, письме с фронта или на фронт, в эвакуацию, есть вся правда. Нет понятия объективности применительно к этому – есть собирательный образ, есть огромное количество фактов – это хорошо, что огромное количество, а не одна «выверенная» – разрешенная кем-то «сверху» дорога. Сопоставляя исторический документ, личный документ, воспоминания, «параисторические факты» (есть такой не очень аккуратный термин), художественную литературу, фольклор, плакат – весь комплекс того, что сопровождает любое историческое событие – можно его реконструировать.
Приведу пример, который мне очень нравится в профессиональном и человеческом смысле, блестящий случай, который показывает, как можно рассказывать разным поколениям о важном, большом историческом событии. Я увидела это в Перми, там есть музей-диорама Мотовилихинских заводов и соответственно восстания, революции 1905 года. Молодые сотрудники создали изумительную вещь – прекрасную диораму, в традициях студии Грекова, которая рассказывает о происходившем тогда советскими глазами.
Вся диорама сделана очень профессионально с точки зрения изображения и динамики: жандармы на конях, пролетарии завода на баррикадах; и три комментария, записанных экскурсоводами: один комментарий – советского историка, второй – абсолютно нейтральный, воспроизводящий события на основе документов, открытых после 1991 года, где, например, написано, что там не могло быть баррикад, потому что ту улицу жандармы проскакали строем на конях, ничего не обрушив, а третий комментарий – сопоставляющий историю и историческую мифологию. Никто ни на что не давит, кроме того, вы можете полистать выложенные там документы.
Это как раз тот случай, когда история предлагает вам задуматься и посмотреть на разрыв между историей и исторической пропагандой. Но изучать надо и то, и другое – и историю, и пропаганду. В этом смысле отношение к Великой Отечественной войне очень хорошо просматривается на музейной политике 1941-1945 годов.
Интересно, что по документам из бывшего Центрального партархива (теперешний ГАСПИ), ГАРФ и музейных архивов (которые, к большому сожалению, очень редко привлекаются к историческим исследованиям – а это колоссальный кладезь информации и мемуарного, и эпистолярного характера, и просто документального фонда: от листовок и плакатов до переписки) можно сделать вывод, что чем лучше шли у нас дела на фронтах – с 43-го года особенно, – тем больше усиливалась цензура в отношении того, предыдущего, неблагополучного периода.
Видимо, время появилось у власти, а также, возможно, первая попытка и у интеллигенции, и у тех, кто был на фронте, осознать: что же произошло, почему мы учились воевать прямо в окопе? Что происходило в армии в предвоенное время? Тогда уже прозвучал вопрос: надо или не надо было подписывать пакт в 1939 году? К чему это привело? Что делать дальше? – Это уже 42-43 годы.
Первые репрессии по художественным выставкам – это как раз 1944 год, выставка в Сталинграде, сталинградских художников-фронтовиков – выставка просуществовала 4 дня. Сталинградский горком обвинил их в смаковании руин и незнании основ марксизма-ленинизма.
Художественная выставка, прошедшая в Ленинграде страшной, смертной зимой 1942 года, абсолютно не была цензурирована. А вторая, с которой отбирались произведения для выставки в Москве, в Третьяковской галерее – про единство фронта и тыла – была цензурирована, надо было выставлять только оптимистичные картины. Берггольц, побывавшая примерно в это время в Москве, записала: «Трубя о нашем мужестве, ОНИ скрывают от народа правду о нас. Для правдивого слова о Ленинграде еще не пришло время. Придет ли оно вообще?»
Изучая архивы Государственного Эрмитажа, я увидела интересную вещь на одной из выставок: полный уникальный сервиз 1942 года, сделанный Ломоносовским заводом, называется «Блокада». На тончайшем фарфоре ручной работы росписи: перекрестья лучей прожекторов на Медном всаднике, всё сделано в монохромных тонах – это зимний блокадный Ленинград, люди, набережные, изумительно выполненные в художественном воплощении.
Я не могла понять две вещи: откуда тепло для обжига? Кто работал, какие художники? Потому что деятельность завода была законсервирована. И для чего? Если бы после войны, то понятно – рефлексия, но сервиз уже через год попал в Эрмитаж. Оказалось, что он был специально сделан для той выставки в Третьяковке.
Еще один факт, связанный с Ломоносовским заводом: кобальтовая сетка – символ этого завода. Она была изобретена в 1943 году во время блокады (Прим.: Художница Анна Яцкевич, автор знаменитого синего логотипа ЛФЗ, расписала сеточкой сервиз скульптора Серафимы Яковлевой в память о заклеенных крест-накрест окнах домов и перекрестном свете прожекторов, освещавших небо блокадного Ленинграда).
Задача историков: публиковать факты, а не поддерживать мифы
– Так как всё-таки надо преподавать историю: давать разнообразные факты, порой даже противоречивые, освещать разные точки зрения, а подростки пусть сами делают выводы?
– Это вопрос квалификации любого учителя, особенно в школе. Мне кажется, история должна не столько давать ответы, сколько пробуждать вопросы. Я рада, что громогласно заявленная идея о едином учебнике истории так же громогласно провалилась, восторжествовал здравый смысл.
Приведу два примера, как историкам можно объединиться, чтобы сделать что-то для школьников или студентов. Когда я была несколько лет назад в Екатеринбурге, я работала в Государственном архиве Свердловской области, где познакомилась с Ольгой Алексеевной Бухаркиной, теперь она работает в Областном краеведческом музее, хранит документальный фонд. Я сидела и изучала материалы, связанные с эвакуацией Эрмитажа, а Ольга Алексеевна помогала мне в поисках материалов.
Когда я уехала, она прислала мне письмо следующего содержания: «Нашла один интересный документ, рассказывающий о проблеме количества жертв блокадного Ленинграда». Я внутренне охнула, потому что эта тема звучит всегда, до конца не прояснена. Если посмотрите «Блокадную книгу» Даниила Гранина и Алеся Адамовича, даже изданную теперь, без купюр, или публикации старейших историков-блокадников – например, Геннадия Леонтьевича Соболева: он даже пострадал в 60-70-е годы, когда пытался сопоставить количество похороненных на разных кладбищах Ленинграда, помимо Пискаревского, и выяснил, что реальная цифра была больше официальной.
Ольга Алексеевна переслала мне скан документа, где было написано, что на основании распоряжения уполномоченного по охране гостайн в печати предписывается не публиковать никакие иные цифры, кроме 642803 человека. Этот документ 1977 года был разослан во все архивы страны.
Я поняла, что искать надо в Москве, учитывая статус автора документа – уполномоченного по охране гостайн в печати. Нашла в ГАРФе. Эту цифру впервые озвучил на Нюрнбергском процессе уполномоченный ГКО (госкомитета обороны) по продовольствию Дмитрий Павлов. Вот эта цифра с такой точностью, до 803-х, – когда по данным НКВД каждый день умирало по несколько тысяч человек, – не вызывает доверия. И это число – это данные на весну 1942 года, когда Павлов побывал в Ленинграде.
Этот документ я опубликовала в историческом журнале «Дилетант» для широкого распространения, в специальном номере, посвященном юбилею снятия блокады Ленинграда. Документы нужно публиковать как можно больше и как можно шире. Только так и можно работать. Вопреки стойкому стереотипу, всё же в архивах огромное количество неизвестных ранее документов открыто и доступно. Но они мало кого интересуют, как ни парадоксально – даже среди историков. Еще одна проблема: мизерность тиражей серьезных публикаций на историческую тему, основанных на документальных источниках.
– С одной стороны, историки говорят о мифологизации истории, разоблачают мифы, а с другой – в обществе есть потребность в мифах, люди болезненно с ними расстаются…
– В мифах всегда есть потребность, причем не только в идеологических. Даже в личной жизни иногда приятно жить мифами, в профессиональной тоже. Трудно расставаться со сформировавшимся стереотипом, с тем, в чем ты убежден. Как сказал классик: не стоит путать знания с убеждениями. Удобнее жить, когда у тебя нет никаких вопросов – интереснее жить, когда вопросы у тебя есть.
Мифы – это составляющая массового сознания, их надо анализировать. Другой вопрос, что мифы иногда сознательно создаются сверху, а иногда – снизу, но они – составляющие любого исторического процесса, социологам их нужно знать. Народ испытывает потребность не в мифах и не в объективности – это инфантильное сознание: народ хочет, чтобы всё было ясно, потому что неясность в болезненных вопросах (а у нас весь ХХ век был болезненным) неудобна, надо разделить на красное и белое, на добро и зло.
Трудно расставаться с советскими мифами, происходит подмена понятий – говорят: «Мы не будем критиковать Сталина – это неоднозначная фигура, мы при нем победили в войне». При нем, но не благодаря ему, и первые два года войны это доказывают. Кстати, при Сталине День Победы не был «красным днем календаря». Его праздновали только в 1945-м и 1946-м. И всё. До смерти вождя.
Сталину не нравилась народная победа. Он, будучи очень умным человеком, понимал, что победа не его, именно поэтому ужесточение политического режима, так называемого позднего сталинизма, произошло уже в 1946-м, а не в 1949-м, когда было «Ленинградское дело», уничтожена вся верхушка ленинградского руководства, которое было в городе во время блокады. Но уже в 1946-м было постановление о журналах «Звезда» и «Ленинград», т.е. травля Зощенко, Ахматовой и представителей ленинградской интеллигенции – давление на интеллектуалов произошло сразу после войны.
Если говорить о 1917 годе: такие болезни как большевизм очень трудно лечатся. К сожалению, в 90-е годы, как ни парадоксально, было мало сделано для излечения этой болезни. Да, было выброшено на поверхность обсуждение множества наболевших вопросов, но это быстро прошло, годам к 1995-1996-му, стало достоянием почти маргинальной группы – историков и литературоведов. Это исчезло с центральных каналов телевидения, из государственных СМИ. Так этот дуализм сознания и продолжается. Результат: по последним опросам Левада-центра 54% населения говорит, что Сталин – более положительный герой, нежели отрицательный. Это катастрофическая прореха в сознании.
Патриотизм: любовь к отечеству, а не режиму
– Может ли история воспитывать в духовно-нравственном плане? Сейчас пытаются призвать историю для воспитания патриотизма, но многих пугает, что такие спорные, болезненные вопросы, которые вы сейчас озвучили, никак не могут помочь в воспитании патриотизма, а наоборот – внесут раздор в молодое сознание.
– Сейчас патриотизм часто называют национальной идеей. Я не понимаю, как чувство может быть идеей. Любовь к Родине, к матери, к ребенку – это чувство. Патриотизм – это чувство, и история априори воспитывает это чувство. Другой вопрос: если ребенок заболел тяжелейшей инфекцией – вы перестанете его любить? Нет. Если близкий вам человек попал в катастрофическую ситуацию – вы от него отвернетесь? Тогда грош вам цена. То же самое и с отношением к истории: нужно всё знать, и хорошее и плохое, но ничего не отрицая и всё анализируя.
Тут есть такая тонкая тема: мы любим государство или мы любим отечество? Патриотизм – это любовь к отечеству, и она не всегда тождественна любви к режиму, который находится у власти. История, во всей ее полноте – и с положительными страницами, и с трагическими, и с позорными, и с победоносными – безусловно воспитывает патриотизм, если ее не уродовать идеологией. Давайте узнаем о себе всё, и оценим историю такой, какой она была: с колоссальными успехами и катастрофами. И любим такую, какая есть, а иначе – не любим. Если любим только за хорошее – тогда вам в магазин.
– В одном из последних интервью Михаил Пиотровский сказал, что ему не нравится слово «патриотизм» – надо воспитывать в людях чувство исторического достоинства, чтобы быть достойными своих предков…
– Нельзя отрицать факты биографии и забывать – забвение чревато рецидивом. Нельзя говорить о том, что у нас не было репрессий или что они были маленькими. Они были, и давайте изучим их, поймем, что нам с этим делать.
Скажу как преподаватель вуза: молодежь очень четко реагирует на лицемерие, в том числе историческое. На высшем государственном уровне принята концепция увековечения памяти жертв политических репрессий. При этом в Псковской области на территории государственного музея, а значит, с согласия властей, устанавливается памятник Сталину. Псковская область – не единственный пример. Так нельзя. И молодежь реагирует: либо она не доверяет власти, либо она не доверяет историкам, а страдает в результате как раз чувство патриотизма.