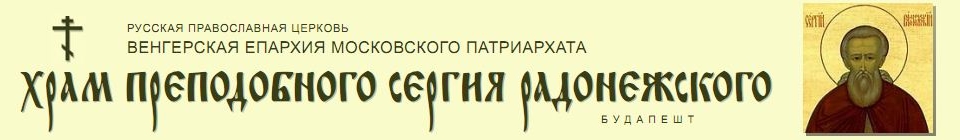ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА
ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ
РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
ПЛАН ПРОЕЗДА
О ПРИХОДЕ
СЛОВО НАСТОЯТЕЛЯ
СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ
ЖИЗНЬ В ЦЕРКВИ
ХРИСТИАНСТВО
В ВЕНГРИИ
ПРАВОЛСЛАВНАЯ
МИССИЯ В МИРЕ
НАШЕ ПРОШЛОЕ
И НАСТОЯЩЕЕ
МУЧЕНИКИ
И ИСПОВЕДНИКИ
ХРИСТИАНСКИЕ ПРАВЕДНИКИ
ЦЕРКОВЬ
И ГОСУДАРСТВО
СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
ВОСПОМИНАНИЯ
И ДНЕВНИКИ
ВСЕХ ИХ СОЗДАЛ БОГ
СОВЕТЫ ВРАЧА
БИБЛИОТЕКА
СТРАНИЦА РЕГЕНТА
ФОТОГАЛЕРЕИ
ДУХОВЕНСТВО ХРАМА
НАШИ РЕКВИЗИТЫ
КОНТАКТЫ
ССЫЛКИ
Помнится, спросил я владыку, как мне поступить при проезде через Афины и через Александрию, надо ли мне являться тамошним первоиерархам. Митрополит поморщился, состроил гримасу, снизу вверх прогладил свою бороду, сказал нечто весьма нелестное и малоцензурное про этих святителей, особливо про патриарха Мелетия, и не настаивал на моем визите к ним. Их обоих он недолюбливал за «неотеризм», венизелизм, новый стиль и пр. Я все же решил визиты сделать, тем более, что на этом настаивали в Афинах русский священник, протоиерей Павел Крахмалев, а в Александрии наш бывший консул А. М. Петров. В результате архиепископ Хризостом принял меня совсем не плохо, справлялся о здоровье митрополита Антония, проявил даже некую сердечность. (Потом, в 1932 г,. моя с ним встреча в его митрополии была еще более радушной и вполне благожелательной). Патриарх Мелетий встретил меня чрезвычайно надменно, сам все время стоял и мне не предложил сесть, не угостил ни кофеем, ни «глико», и пробормотал что-то очень прохладное об Антонии. А когда-то, в 1920 г., они были почти друзьями.
Со времени переезда в Иерусалим мои отношения с митрополитом естественно ослабели. Переписка, вначале интенсивная, стала делаться все более редкой: на расстоянии и на бумаге не объяснить всего того, что гложет душу и беспокоит ум. Научался многое переживать в себе; кое-что было предметом бесед с бывшим Начальником Миссии архимандритом Иеронимом (Черновым). Этого последнего митрополит откровенно недолюбливал за его неудачное начальствование Миссией в годы 1923/1924. Не более удачным было и мое управление. Да что и мог сделать в том положении почти мальчик в 29 лет, связанный к тому же входящим во все мелочи архиепископом Анастасием?
Особенно, конечно, наши отношения должны были охладиться с тех пор, как я подал прошение об отставке и, при нежелании архиепископа Анастасия давать ему ход, продолжал подавать одно за другим эти прошения.
Когда в 1930 г. Палестину посетили о. Петр Беловидов и моя сестра с мужем, которые все рассказали митрополиту по возвращении, ему стало многое ясным, и он упростил «киприановскую проблему» там: «Ах, не сошелся характером с Мудрейшим. Я так и знал. Ничего не поделать». Когда все же под влиянием писем архиепископа Анастасия митрополит, хотя и обещал мое прошение уважить, но все же предлагал компромиссное решение «пообождать» и подумать, а я ответил решительным отказом что бы то ни было ждать и передумывать, последовал ответ: «И чего ты нервничаешь, как истерическая замоскворецкая купчиха? Успокойся, прошение твое уважили». Пришла и знаменательная телеграмма об отставке, которая решила все.
По возвращении в Европу отношения наши, конечно, заметно охладели. Особенно было горько митрополиту, что я во всех прошениях об отставке просил об увольнении меня не только с занимаемой должности, но и о выдаче мне канонической отпускной грамоты в юрисдикцию Сербского патриархата. С юрисдикцией митрополита Антония я решительно порвал. А так как между ним и митрополитом Евлогием были тогда знаменитые принципиальные расхождения, и все определялось словом «раскол», то я еще больше отдалялся от моего кумира – Антония. Это было вдвойне больно. Его я не переставал любить и чтить, но всю «антониевщину», все «карловацкое» окружение не принимало мое сердце.
С русскими архиереями и в русских церквах я не служил. В «мою» белградскую церковь, в которой я был рукоположен, я ходил ко всенощной и к обедне, но никогда не сослужил, пока не произошло знаменитое «примирение» двух митрополитов. На вопрос, почему я не служу, я отвечал, что не могу говорить «Христос посреде нас» и исповедовать свое с «карловчанами» единомыслие, коль скоро мы на вопрос заграничного расхождения смотрим так по-разному.
У митрополита в Карловцах я бывал в случае моего приезда к патриарху Варнаве, пил чай, беседовал о разных второстепенных вопросах, но душа наших прежних разговоров безвозвратно отлетела. Это были официальные встречи, а общего языка почти уже не было.
Меня больно коробило все более крайнее политиканство карловчан, их «кириллизм», их невероятное для Антония провинциальное отношение к делам Русской Церкви. И куда, казалось бы, девалась вселенскость Антония, его широта, его почти радикализм церковный в его годы общения с епископом Михаилом (Грибановским)?
Митрополита во мне коробило мое полное отвращение от всякой политики: и правой, и левой; мое все большее сближение с сербской иерархией; мой отказ от предложенного мне карловчанами дважды архиерейства; мой отказ в 1931 году осенью принять вновь начальствование в Иерусалиме, предложенное мне приехавшим на собор архиепископом Анастасием; моя все большая близость с моими прежними друзьями в Париже, а потом и разговоры о моем возможном переезде в Париж; мое, наконец, увлечение личностью архимандрита Антонина (Капустина) и работа в 1932/1933 гг. над его биографией.
В этом тоже характерен цельный, негибкий и упрямый в своих раз принятых взглядах Антоний. Он почему-то поверил тем гнусными слухам, которые сплетались вокруг личности о. Антонина и о которых я достаточно говорю в моей книге о нем. Митрополита раздражало мое скептическое отношение к этим порочащим доброе имя архимандрита Антонина сплетням.
«Да, да, да, мой милый, вот вы все про Антонина говорите. А он был развратник. У него было шесть незаконных детей».
Я отвергал это с горячностью и с убеждением. Я поднес митрополиту мою книгу, и он прочитал ее, кажется, с удовольствием. Во всяком случае, — я это знаю, — он оценил мое филэллинство, мою любовь к Иерусалиму, к духовному сословию. Но все же он остался при своем мнении о небезупречной нравственности о. Антонина.
«Да, да, да, мой милый, вы это доказываете, но все-таки я с вами не согласен».
«Владыко, но ведь так легко опорочить имя человека. Это ведь отвратительная сплетня, созданная врагами о. Антонина».
И вдруг митрополит совершенно неожиданно для меня заявляет: «Да, вы знаете, мне говорил про о. Антонина близко его знавший Ал. Ник. Попов и заверил меня, что он был безупречно чистый в половом отношении человек».
«Ну, вот видите, владыко», — обрадовался я.
«Да, может быть, вы и правы», — но потом, помолчав, он вдруг как-то недобро улыбнулся и отрезал:
«Впрочем, у него было шесть человек незаконных детей».
Я спорить перестал. Разубедить человека в раз созданном себе убеждении невозможно. Точно так же, несмотря на все убеждения хорошо знавших Влад. Соловьева людей, митрополит неизменно всегда отвечал одно и то же: «Да, но он был алкоголик, бабник и мистик». И потом, помолчав, добавлял: «и сифилитик…»
В этом упрямстве весь митрополит Антоний. Но так же упрямо он верил даже и скомпрометировавшим себя людям, лишь бы они умели раз втереться в его доверие. Владыка заметно старел. Труднее становилось стоять, ходить, служить. Появлялись какие-то непонятные симптомы. Врачи говорили о какой-то болезни, предполагали повреждения в позвоночнике, допытывались, не было ли в детстве или юности какого-нибудь падения или ушиба. Митрополит, который всегда говаривал: «Презираю духовных лиц, которые празднуют свои юбилеи и ездят по курортам лечиться», сам должен был не раз поехать с Федей на какой-то курорт в Словению. Годы делали свое дело. Митрополиту становилось все труднее ходить и стоять. Но что всего хуже, стали появляться симптомы некоего старческого ослабления памяти; он стал иногда даже заговариваться. Раз как-то за несколько месяцев до смерти он мне предложил архиерейство в… Новой Зеландии. Неоднократно при встрече спрашивал меня, когда я поеду в Палестину и получил ли я визу. А раз как-то сказал: «Вот я скоро помру, и после моей смерти все пропадет, все вверх дном станет. Без меня все развалится».
Это было несказанно грустно слышать. Грустен всегда процесс одряхления и ослабления. Особенно это было горько с Антонием, с таким большим человеком, а для меня – моим кумиром. Я любил молча любоваться на его великолепную голову, когда он сидел у себя, на его улыбку умных глаз, на его иногда еще ясные слова и словечки. Но старость брала свое. Антоний уходил. Переворачивалась еще новая историческая страница. Заканчивался какой том истории Русской Церкви.
В 1936 г. я уходил из сербской юрисдикции в Париж. Это произошло небезболезненно. И мой епархиальный архиерей, преосвященный Николай (Велимирович), и сам патриарх Варнава, предлагавший мне быть его викарием, всячески меня отговаривали от перехода к митрополиту Евлогию, а главное, конечно, к вселенскому патриарху, но дело было крепко решено. Я еще один раз своевольничал в жизни. До сознания митрополита Антония дошло ли это, не знаю? Но мы с ним не говорили ни разу на эту тему. Я его видел еще летом 1936 г. В июне- июле состоялось решение Сербского Синода о моем переходе к митрополиту Евлогию. В августе я поехал в Битоль сдать мои дела, запаковать книги моей библиотеки, проститься с моей русской церковной общиной. 11 августа (29 июля) я возвращался в Земун. На белградском вокзале у какого-то русского беженца я увидел номер «Политики» с большим аншлагом: «Умро митрополит Антоние».
У меня дрогнули ноги. Екнуло сердце. Через мозг прошла мысль о чем-то безусловно непоправимом. Итак, нет в живых Антония. Того самого Антония, кумира моей молодости, непререкаемого в течение долгих лет авторитета церковных и богословских вопросов, я больше уже никогда не услышу. Во мгновение ока промелькнула вся моя эмигрантская жизнь, все мое церковное созревание, мое духовное образование, монашество, Битоль, Иерусалим, словом, вся неповторимая полоса жизни….
Сразу стало стыдно за все ему причиненные огорчения, за мое нетерпение, непонимание его, непокорность… Но я не плакал, как-то с годами высыхает источник слез.
Я пришел в Белградскую русскую церковь днем, чтобы совершить первую панихиду. Собралось немало народу. По чину я имел право, как старейший клирик, служить (к этому времени, после состоявшегося «примирения» двух митрополитов, я уже служил несколько раз в белградской церкви). Один из священников, заменявший настоятеля, не позволил мне служить. С болью, но я проглотил эту обиду. В этой церкви, где на меня митрополит Антоний возложил руки, я не смог совершить поминовения его.
Вечером было начато служение в сербском кафедральном соборе. Я прибыл туда заранее. Прибыл туда и митрополит Анастасий. Подъехал похоронный автомобиль из Карловцев, привезший тело. Я с архимандритом Феодосием (Федей) вынес вместе с другими священниками очень массивный металлический гроб из автомобиля. Поставили его на катафалк посреди соборного храма. Отслужили заупокойную всенощную. После этого началось чтение Евангелия. Первым начал читать иеромонах Хризостом, молодой секретарь сербского Синода. Он читал недолго. Вторым читал я. Меня тоже быстро сменили. Была тихая, недушная ночь. Змеились в Саве и Дунае огоньки пароходов. Темнел Калемегдан. Я ясно помню, как я переживал незаполнимую пустоту от ухода этого человека. Я еще лишний раз почувствовал, как я быстро духовно сиротею: епископ Николай (Карпов), архимандрит Амвросий, епископ Гавриил (Чепур), теперь митрополит Антоний… За ними где-то и когда-то в очереди встану и я. Но пока что надо жить, еще идти и много, много в жизни ошибаться.
Из провинции съехалось на погребение митрополита много священников. Приехал даже из Хопова о. Алексий Нелюбов. Многие священники сербы также пришли на отпевание. Покуда был жив митрополит, его и осуждали, и поругивали за его прямолинейность, за словечки, за противление всякому модернизму, до которого было немало охотников среди сербских священников и даже архиереев, сторонников нового стиля, второбрачия клириков, ослабления поста и вообще всякой церковной дисциплины. Это теперь все было забыто, пришли «на погреб великого Антониа». Сам слышал, как один из либеральствующих сербских попиков, кандидат Киевской академии, говорил в те дни, что как ни утомительны были службы, а «Антоний то заслужил. За Антония помолиться долг всякого серба и вообще славянина».
Отпевание было невероятно длительно. Служил патриарх Варнава в сослужении шести архиереев, среди коих был и митрополит Анастасий, и свыше 20 священников. Патриарх вошел в храм перед литургией в 8 часов утра, а тело митрополита вынесли в 4 часа пополудни. Не было ничего пропущено из чина отпевания; пело два хора, большой хор, сборный из всех церквей под управлением Маслова, и особый священнический и студенческий, в котором участвовали и богословы, и профессора семинарий, и вообще всякого рода любители. Пели с канонархами, удвояли, утрояли, словом, уставщики дали волю себе. Народу было так много в храме, что даже при желании упасть в обморок это было бы невозможно; некуда было падать.
Хорошее, хотя и непомерно длинное слово сказал митрополит Анастасий. Великолепен был патриарх Варнава со своей ассирийской бородой, в богатейшем облачении. Многие плакали. Кругом катафалка стояли священники; по бокам гроба – иподиаконы с дикириями и трикириями. Все это молодые «студентики», Володи, Миши, Сережи. Так и думал я тогда: Алеша Храповицкий, увлекавшийся благочестием, прислуживавший на архиерейских литургиях митрополита Исидора, потом сам монах и архиерей, совершенно феноменальный молодой ректор двух Академий, пробудивший студенчество, возродивший школу, растолкавший заплесневевших в своем позитивизме и скепсисе профессоров, знаменитый «Антоний Волынский», завлекатель душ в монашество, смелый отрицатель всякого схоластицизма в богословии, моралист в догматике, учитель сострадательной любви в пастырстве, враг и латинства и протестантизма, барин в лучшем смысле этого слова и в то же время глубоко презиравший «всяких аристократишек», которые становятся на колени, любят акафисты и молебны, мешают благочестие с распущенностью, Антоний крайний радикал в церковности и враг всякой революционности и ненавистник либерализма, — ну, словом, вот этот мой кумир в течение долгих лет, этот Антоний теперь в этом тяжелом свинцовом гробу. Так я его и не видел мертвым, не полюбовался выражением его прекрасного спокойного усопшего лица. Этот классик во всех отношениях Антоний, этот носитель церковной красоты безо всякой красивости и сусальности лежит теперь в гробу, от которого нет-нет, да и дохнет волна тленного запаха, смешивающегося с благовонием кадил и ароматом восковых свечей.
Неумолима волнообразная непрерывность истории. Сам когда-то он у ног какого-то своего Гамалиила, а потом и сам ставший Гамалиилом для многих, Антоний со своими ректорскими чаепитиями в Сергиевом Посаде и в Казани. Кругом него «студентики» слушают, разинув рот, его толкования Писания, рассказы про профессоров, шуточки о разных архиереях из вдовых батюшек, не умеющих уставно служить, или шипящий и разглаживающий снизу вверх свою бороду с насмешкой над «интеллигенцией, которая и кадило-то от митрополита не умеет отличить». И я сам когда-то умиленно и безоговорочно слушавший эти Антониевские афоризмы, влюбленный в него по уши, теперь вот стою у гроба своего Аввы, Великого Аввы Антония, Аввы стольких наших архиереев и монахов. Уходит он в путь всея земли, и мы должны теперь одни, сами, своим умом жить, спасаться, решать свои задачи, как-то слабовато, а, может быть, и бездарно закончить свою жизнь, когда и над нами услышится это «Волною морскою», и эти неповторимые икосы священнического отпевания…… Многое передумано было в эти дни погребения Антония.
Процессия шла через весь город до русской церкви, где совершили литию, а потом на Новое кладбище, где под Иверской часовней погребли митрополита.
Ушел он, как уходили и многие до него, и судьба его ничем не отлична от судеб других, и более, и менее его знаменитых людей. Первое время все пожалеют, кое-кто поплачет, некоторые постараются «сохранить объективность и не осудить» за ошибки. Но скоро забудут. Это удел наших больших людей. Мы, русские, по природе нигилисты, не любящие своего прошлого, не помнящие своего родства. Напишут ли когда-нибудь настоящую биографию митрополита Антония, не так, как лакейски и угоднически, не критически и не исторически пишут в юбилейных сборниках и говорят в надгробных речах? А настоящую солидную диссертацию об Антонии, «книгу его бытия», драму всей его жизни. Почти уверен, что не напишут. Если наш великий Филарет остался до сих пор без биографии, дельно и исторично написанной, если нет у нас настоящих (без панегириков) жизнеописаний многих наших ученых и архиереев, то не в наше глухое и некультурное время ждать биографии Антония Храповицкого. Может быть, и лучше, что не напишут. Ибо либералы будут ругать за то второстепенное и совершенно случайное, что бывало у него, как и всякого человека, теневого. А правые и «почитатели» разведут такой елей и подхалимство, что и читать никто не станет, да и действительности соответствовать не будет. Поэтому, напрягая теперь свою благодарную, но не лишенную и критицизма память, хочу суммировать то немногое, что вспомнилось, подвести какие-то итоги тому впечатлению, которое оставил на меня митрополит Антоний и не мог не оставить на каждого человека.
Если бы неумолимо скупой на время критик потребовал бы дать характеристику ушедшего митрополита в одном и только одном слове, то я бы без колебания сказал с полным сознанием ответственности за это слово: «Антоний – это церковность».
Конечно, бывают батюшки рационалисты, богословы скептики, архиереи карьеристы, может быть, не трудно найти даже неверующего священника, «ради хлеба куса» совершающего свое «служение». Но, безусловно, очень и очень много можно среди духовенства найти людей малоцерковных. Я имею в виду, иными словами, и исполнительного, но формального священника; и верующего, но «постольку-поскольку»; и убежденного в истинности христианства, но какого-то опресневшего, обеспложенного, внецерковного христианства. Это священники, которые, вступая в клир, прежде всего думают о реформах и считают, что их только не хватало, чтобы переустроить все там, где каждая «мелочь» имеет за собою многовековую давность, где за каждую традицию церковной жизни и устройства было пролито море крови, реки слез и потоки защитительных и обличительных речей. Это те, которые, по мудрому слову Самарина, «к церкви относятся» или «в церкви числятся», но не живут Церковью. Церковь вне их, а они вне ее.
Не таков был Антоний. Церковь, ее традиции, уставы, быт, каноны, слова, выражения, догматы, вероопределения и т. п. были его сущностью, или, говоря языком богословским, его «усией»23.
В этом-то, может быть, и состоит одно из самых сильных средств антониевского очарования. Ведь надо только вспомнить, когда появился Антоний на горизонте Русской Церкви и богословской школы, и чем тогда была эта школа в лице своих преподавателей и питомцев, по крайней мере, большого их числа.
Ведь это были только что отошедшие семидесятые годы, с их позитивизмом, с владычеством Дарвина, Сеченова, Ренана, Добролюбова и Щедрина над русскими душами и умами. Из Семинарий и Академий валом валили их питомцы в Ветеринарные и Межевые институты, на медицинские и естественные факультеты, или уж, в крайнем случае, в акцизные чиновники. Создавали тот тип бывших учеников духовной школы, который Антоний презрительно и зло называл «Ракитиными» и «серым духовенством» (т.е. ни черное, ни белое) и «пиджачниками». В Академиях шипели и ехидничали полуверующие рационалисты, начитавшиеся левой протестантской дешевкой и отрицавшие почти всю церковную традицию. Каноны были «византийской трухой»; сомневались во многом, что было свято и традиционно. И, что самое главное, это то, что утерялся дух самой церковности. Таинства назывались обрядами. Красоты и смысла богослужебной символики и всего литургического богословия просто не знали и не понимали. В монашество никто почти в Академиях не постригался. Архиерейский состав комплектовался в подавляющем числе из вдовых батюшек. И когда в Академиях Киевской и Петербургской впервые постриглись после долгого перерыва два студента, Окнов и Грибановский, то стали говорить, что Питирим Окнов прорубил окно в монашество, а после Михаила Грибановского монахи пошли расти, как грибы. Алеша Храповицкий стал одним из первых таких грибов. И он со свежестью не-семинарской рутины, с задором молодости, с огнем своего вдохновения и таланта начал в Московской Академии, а потом и в Казанской утверждать то, что Лебедев и Евгений Голубинский ядовито, с усмешечкой разочарованного в своем прошлом бурсака, разлагали и отрицали. Антоний стал о Церкви учить не как о каком-то учреждении, не консисторски, не схоластически-формально, а живо провещал, или, точнее, как гром, прогремел о том, что Церковь – это жизнь в Духе Святом, в таинствах, что Церковь евхаристична, а Евхаристия церковна, потому что она только в Церкви. Для Антония Церковь была все, от чего получает свое бытие и осмысление остальная жизнь. Вне Церкви вообще ничто не имеет оправдания и смысла. Словом, Антоний, 28-летний ректор, вдохнул в омертвевшую от синодальной рутины и филаретовской опеки школу новую веру в примат Церкви. Он вернул засыхавшей в схоластике школе ее жизнь, ее дух и ее смысл. И школа сразу же ожила в этой вере в Церковь, и самая церковность забилась полнокровным ключом в стенах казенной школы. Вот именно казенщины, формализма, синодальщины, филаретовщины (в ее отрицательном аспекте) не было у молодого архимандрита Антония, ставшего через несколько лет Великим Аввой нашей духовной школы.
Это означало у него, и отсюда вытекала его безусловная цельность и целостность. У него не было и не могло быть раздвоенности личности, сознания, жизни. Его аксиология была только церковной, критериология только церковной, его действия, направление мыслей, взгляд на события – только церковные. Он не мог думать или сказать, что поскольку это расценивается с точки зрения евангельской, то это так, а поскольку оно рассматривается с точки зрения истории, современности, прогресса и т. п., это не так. Если что-либо – будь то тюбингенская критика, или конституционный либерализм, или распущенность нравов, или экуменическое движение и Христианское Студенческое Движение – не могло быть приведено в полное и безусловное согласие с канонами соборов или правилами церковного устава, это было митрополиту неприемлемо, или, еще правильнее, ненужно и скучно.
Скажут: это – узость, это – неисторичность, это – нечуткость к требованиям момента. Верно! Но так же верно и то, что это традиционно, это освящено веками, это вошло в мировоззрение Великого Аввы. В каком-то смысле этим приматом церковности во всем объясняется и пресловутое реакционерство, черносотенство, правизна митрополита Антония. Что и говорить: он себя связал с разными подозрительными типами, именно типами из крайне-правых организаций, около него вертелись какие-то мрачные субъекты из Союза Русского Народа, он был близок к профессору Б. Никольскому из Русского Собрания, укрывал у себя в Почаевской лавре убийцу Иоллоса (или Герценштейна, не помню точно), не без его ведома происходил процесс Бейлиса, что, правда, не мешало ему быть очень большим защитником еврейско-библейского мира, еврейского языка, тонким ценителем пророков и прочее. Митрополит Антоний слыл за крайне-правого, а при близости к нему небезызвестного архимандрита Виталия в Почаеве создавался центр того отвратительного квасного «патриотизма истинно-русских людей», от которого в ужасе шарахалось все, даже наиболее благонамеренное, но чуждое этого искусственного «народничества».
Но дело не в этих уродливых феноменах политических движений, а в том, что было подлинно-антониевское, что никогда не в силах были понять эти «молодцы» из чайных Союза Русского Народа. Антоний жил своей глубоко продуманной, правда, уже отжившей славянофильской наивной верою в православное царство, как неотъемлемую часть всей его православной системы философии. А «молодцы» прикрывались удобным им авторитетом Антония, проповедника, идеолога, архиерея, богослова и под этой вывеской устраивали свои мелкие делишки, делали в сферах свою небезупречную карьеру, с которой Антоний не имел ничего общего.
У митрополита была своя православная вера в царство и царя, вера чисто византийская, теократическая. Царь не был для него политической формулой, как для всех бюрократов, политиков или просто «союзников». Царь – это был догмат веры. Это была часть его вероисповедного символа. Он не царю как политическому принципу кланялся. Он мог очень резко сказать о царе. «Вот в Основных Законах царь назван главою Церкви. Глупости! Божия Матерь именуется в акафисте только столпом Церкви, а как же царь может быть главою. Глава – Иисус Христос. Царь – это в Церкви вроде станового пристава» (это я своими ушами слышал от владыки). Но царь нужен для защиты Церкви от всякой «сволочи», от революционных профессоришек, от кадетской дряни (тоже буквально слова митрополита). В данном случае митрополит смотрел на царя в Церкви, как, следуя языку императоров Ангелов [византийская династия – ред. Вопросы Истории Русской Зарубежной Церкви], на «эпистимонарха», на благочинного в Церкви. Он понимал, что только царь, и при этом только самодержавный, а никак не конституционный царь, может быть носителем священной, абсолютной, перед Единым Богом ответственной власти, власти богопомазанной, богоизбранной, боговенчанной. Он ясно понимал, что сакральные обряды благословения венчанного Царя совершенно неприменимы к Президенту Республики или к какому-то выборному «Главе Правительства». Он понимал, что Царьград, как завет Русского Царства, совсем ничего не имеет общего с политическим и дипломатическим вопросом о «Проливах», за которые почему-то боролся Милюков.
Как-то я был несказанно поражен, что эксмарксист о. Булгаков, кадетский профессор и интеллигент, прочитал нам в кругу счастливых избранников свой диалог «Ночью», в котором прославлял идею православного русского Царя, идею религиозно-обоснованную. Это было, в сущности, ничем не отличное от Антония прославление царства, но прославление религиозное, церковное.
А в своих автобиографических заметках, в лучшем, может быть, из всего того, что о. Сергием написано, он сам признается, что он «каким-то внутренним актом, постижением, силу которого дало ему православие», изменил свое революционное отношение к царской власти. Он говорит о «божественной идее власти Божией милостью, а не народным произволением». Он, Булгаков, полюбил царя «любовью до гроба, которою обещаются перед алтарем жених и невеста». Революция была Булгакову «постыла и отвратительна». Он, этот бывший революционер, понял, что не Временному Правительству говорить о Константинополе и о Проливах, что этого была достойна только царская Россия. Странно: сошлись в таком вопросе, на таком остром лезвии «реакционер» Антоний и «революционер» Булгаков, Царь и монархия для митрополита именно и не были вопросами политическими, а чисто религиозными. Он не сопоставлял и не мог сопоставлять монархию с другими обликами государственного устройства, потому что все остальное было политическое, человеческое, государственно-правовое, а монархия почивала на библейской теократии, на священноначалии. Потому-то политика и была ему чужда. Царь был религиозно оправдан, а идеологию конституционного либерализма, кадетской партии, республики никак нельзя было религиозно канонизировать. Отсюда и известный антониевский афоризм: «Терпеть не могу слов, кончающихся на ”уция”: конституция, революция, проституция…»
И в то же самое время он возмущался безверием монархической аристократии, равнодушием некоторых Высочайших Особ к вопросам религии и Церкви, склонностью их к спиритизму, масонству, оккультизму. Он поэтому недолюбливал за «мистицизм» Александра I и баронессу Крюденер, порицал распущенность нравов на верхах, преклонялся перед крепостью староверов и купцов. Его возмущал современный чин коронования, сильно измененный по сравнению с византийскими и древнерусскими подлинниками, чин, в котором митрополиты, подносящие Царю и Царице запивку и рукоумывало, унижены до прислужнического уровня. Он любил Александра III за его семейно-патриархальное православное направление, критиковал Царя-Освободителя, конечно, негодовал против Петра Великого. Каждого Царя и монархиста он расценивал прежде всего с точки зрения его верности православному быту и чистоте нравственности, к его правоверию.
Не знаю, кого он больше недолюбливал — либеральствующих профессоров, носителей теоретического атеизма, или правых аристократов, но жизнью своею доказывающих свое практическое нехристианство, свой практический атеизм. Он всякого и все расценивал с точки зрения его церковности. Это был его камертон и его норма.
В монархизме митрополита Антония, повторяю, не столько было политических и государственно-правовыx расчетов, как богословски-церковного подхода. Царь занимал у него место не столько в государственной иерархии, сколько в церковном чине. Владыка думал последовательно византийски; я так и вижу его во времена какого-нибудь патриарха Константинопольского Полиевкта с его идеологией теократического монархизма. Митрополит Антоний мог бы отстаивать и все византийские чины поставления эпарха города, освящения того или иного момента государственной жизни, благословения Церковью каких-нибудь государствснпых актов, коль скоро эти акты исходят от православного царя и служат на пользу Православной Церкви. Не знаю, есть ли это огосударствление Церкви или Цезарепапизм, или оцерковление власти царя, просветление правового строя. Он, между прочим, очень радовался тому, что нашумевшие в первые годы эмиграции «евразийцы»настаивали на строительстве государства на «правде», а не на «праве». Он ведь был славянофилом, совершенно запоздавшим в наши дни. Но он и не мог не чувствовать, как сами братья-славяне постепенно растеряли свою православную церковную идеологию и превратились, по прозорливому пророчеству К. Леонтьева, в «сторонников бельгийской конституции, которая не даст и преподобного, а не то что священномученика».
Антоний вовсе не отдавал Церкви во власть государства. Он был одним из первых по времени, а по значению и величине самым главным защитником воссоздания патриаршества в России. Он с своим другом, епископом Михаилом (Грибановским), — рано умершим и завещавшим митрополиту свою панагию, которую он преемственно носил сам после митрополитов Палладия и Антония Вадковского), — много и подолгу в былые годы беседовал о свободе Церкви, о воссоздании ее канонического строя и о многом другом, о чем глухо сказано в маленькой заметке Антония «Дисциплина аркана», напечатаной в «Волынских Епархиальных Ведомостях» за 1906 г., а потом воспроизведенной во II томе сочинений митрополита. Между прочим, владыка пишет: «Чувствую, что, если доживу до старости, то не миновать мне больших столкновений за церковную идею, за освобождение Церкви от порабощения государственности». Статья заканчивается: «И многое иное говорил он (т. е. епископ Михаил), что еще неудобно печатать». Второй том сочинений архиепископа Антония вышел в 1911 году.
Это следовало бы помнить тем, кто из всей борьбы Антония за независимость Церкви от Саблера запомнили только пресловутую фразу, сказанную в запальчивости и раздражении, фразу о «черном борове». Не надо забывать и того, что при Дворе не любили Антония именно за его стояние за независимость Церкви. В переписке Государыни Императрицы Александры Феодоровны к Государю прозрачно намекается на «левизну» его. Это Антоний-то левый? Он не был левым потому, что это несовместимо с его идеалом православного царства. Он не был политически-правым, потому что он не мог бы быть последовательно церковным в этом своем «правом» лагере. Он был просто церковным.
Рядом с отличавшей покойного митрополита церковностью надо поставить вытекающее из нее его чувство вселенскости православия. Известно было, — и я об этом уже говорил, — что и в Академиях, и в своей Волынской семинарии он много и убежденно покровительствовал меньшим братьям, – приезжавшим к нам учиться грекам, сербам, болгарам, арабам, румынам. Митрополит с ними возился, имел неприятности с Саблером из-за них, особенно заступался за разных гонимых и, вероятно, по большей части за дело гонимых лентяев, пьяниц и всяких шалопаев. Он никогда не ограничивал православия одной русской его формой, к тому же формой самой младшей, тогда как восточное православие было на тысячу лет старше нашего, а сербы и болгары были крещены тоже до нас, русских. В своей молодости он видел изгнанного из Сербии государственной властью митрополита Белградского Михаила (Иовановича) и с большой любовью вспоминал его светлый исповеднический образ. В памятный 1913 г. на торжества Дома Романовых именно по инициативе митрополита Антония был приглашен Антиохийский патриарх Григорий, чтобы показать русским давно уже ими забытый чин патриаршего служения и самую и самую фигуру восточного патриарха. Митрополит, как я уже упоминал, любил служить по-гречески, почти всегда несколько возгласов делал по-гречески, а то и всю службу совершал на этом языке. Он очень был рад своей командировке от Синода в Палестину, чтобы ознакомиться на месте с делами Миссии и Палестинского Общества. Он очень радовался моей туда поездке, вспоминал свое там пребывание, отдельных архиереев тамошних, сценки из жизни. Я его потешал повествованиями, не без присущей мне слабости имитировать действующих лиц.
Он скорбел о потере церковного чутья многими сербскими архиереями и священниками, не любил их обмирщенности, подстриженности, штатскости, политиканства. Да и в современных афинских эллинах он не мог усмотреть всего того, что предвидел за 80 лет до этого чуткий и умный Константин Леонтьев. Кстати, о Леонтьеве. Как ни странно, митрополит его недооценивал. Т. е., точнее, он любил Леонтьева за его любовь к грекам, и именно к грекам, а не просто к восточным собратьям. Ведь Леонтьев был чистый филэллин и очень сдержанно, чтобы не сказать больше, относился к славянофильству. Митрополит ценил Леонтьевские публицистические сочинения, но совершенно мало знал и никак не восторгался Леонтьевым как литератором, как художником, как изумительным бытописателем Востока и особливо тогдашней Греции. Маленькая подробность еще. Многие знают, что Леонтьев принял «тайное» пострижение с именем Климента. Но в своей яркой книге о Леонтьеве Бердяев ничего не написал (вероятно, этого он и не мог узнать) о погребении Леонтьева. Леонтьев умер в Сергиевом Посаде. Митрополит Антоний мне сам говорил, что он, тогда архимандрит-ректор Московской Академии, совершил отпевание Константина Николаевича, или, уже по-церковному, «монаха Климента».
Думаю, что барство и натуралистический эстетизм Леонтьева отвращали Антония от него.
Возвращаясь к вопросу о вселенскости христианства, должен заметить, что владыка Антонин хотел в этом, главным образом, найти примиряющий этнический элемент наднациональности христианства. Шовинизм в церковных делах, будь то греческий, или сербский, или русский, был ему донельзя противен и чужд. Русское в православии, равно как и греческое или арабское, с исключительностью по отношению к другим обликам церковности было для него провинциализмом и отрицанием того, что во Христе ни эллин, ни иудей, ни варвар, ни скиф. Поэтому-то он и почитал в особенности греков над всеми другими, что у них мерило церковности чище и незамутненнее, что они сами классичнее, но, конечно, укорял греков в нечувствии в арабском или болгарском вопросе. Но самую схизму болгарскую по существу порицал. Он не сочувствовал шовинистически настроенным греческим архиереям-венизелиотам, а самого Венизелоса не мог любить за его масонский либерализм, за несоответствие антониевскому византийскому политическому идеалу. Антоний очень чтил примат Константинопольского патриарха, сам в начале эмиграции раскритиковал проект епископа Вениамина (Федченкова) о создании в Константинополе русского Высшего Церковного Управления, но когда переехал в Сербию, и когда его убедили возглавить знаменитый Карловацкий Собор и Синод, он этим самым противоречил своим же взглядам на территориальный, а не национальный принцип в устройстве церквей. Не любя митрополита Евлогия за многое, он все же оценил его решение идти из Москвы прямо непосредственно к Константинопольскому патриарху за защитой. Вспоминаю по этому поводу и такую подробность. Вначале изгнания митрополит Антоний был в Афинах ( в гостях у архиепископа Мелетия (Метаксакиса), с которым тогда были у него отношения очень сердечные. Митрополит Мелетий как архиепископ всея Эллады оказывал нашему митрополиту все почести. Как-то зашел у них разговор о преимуществах Константинопольской кафедры и о каком-то расширительном толковании этих преимуществ тогдашним Вселенским патриархом. Мелетий особенно нападал на патриарха. Антоний спросил его, как он, Мелетий, к этим правам относится и что бы он стал делать, буде Промысел приведет его на Вселенскую кафедру. Мелетий заверил, что он не будет этими правами расширительно пользоваться, и отрицал вообще особые права Константинополя. Через несколько лет Промысел действительно судил Мелетию занять престол Златоуста и Флавиана, и он, конечно, настаивал на своих правах, толковал их еще более упрямо в расширительном смысле, да и вообще проявил себя неблаговидно в свои годы патриаршествования в Константинополе (новый стиль, автокефалия Польской Церкви, автономия Финляндии, Латвии, Эстонии и острейший венизелизм), — чего ему Антоний никогда не прощал.
Но вообще, признавая вселенский принцип превыше всего в устроении Церкви, Антоний отдавал преимущество культуры, традиции, вкуса, стиля первому и наиболее классическому народу православного Востока – грекам. Он был великий и убежденный филэллин.
Митрополит свою церковность проводил очень последовательно и строго и в личной жизни. Он был неумолимый противник всякого новаторства в Церкви. Носил длинные волосы (они были прямые и некрасивые), широкую, окладистую, чисто русскую бороду. Такие бороды были у старообрядческих начетчиков, у бояр, у целовальников, купцов и однодворцев. Вообще лицо было очень русское и очень породистое, но не утонченно-барское. Это была скорее какая-то земская сила, что-то кондовое, круто замешанное. Итак, волос никогда не стриг. Посты соблюдал неукоснительно. До Сербии мяса никогда не ел и очень возмущался, когда его в Греции в Афинах кормить хотели мясом. «Да что я, басурманин что ли какой?» Но в Сербии, видя, что архиереи вкушают мясо, он и сам, хотя безо всякого услаждения, ел мясо и нас «студентиков» угощал колбасой, приговаривая старый семинарский анекдот, что слово «колбаса» еврейского происхождения, так как «кол» значит всякая, а «басар» – плоть, и что, следовательно, в колбасе всякая скотинка участвует: и корова, и свинья, и лошадь, а, может быть, и кошка, и собака. В гостях не рекомендовал подчеркивать свое постничество, а вкушать, что дают. А если молодой студент или монах начинал злоупотреблять постными упражнениями, то митрополит очень настойчиво заставлял оскоромиться в постный день. «Чтобы смирился, чтобы не зазнавался. Ибо Царство Божие не есть ястие или питие, а правда, радость и мир о Дусе Святе».
Любил чай, предпочтительно с молоком и обязательно с вареньем. Особенно любил клубничное. Любил все сладкое, как дети. Вина не пил, а так как в Карловацкой Патриархии всегда давали к обеду вино, то митрополит и хорошее белое вино разбавлял водою. Крепких напитков и в рот не брал.
Нравственности был безупречной. Любил, даже публично (что бывало не всегда удачно), заявлять, что он девственник. Этим он воспитательно действовал (знаю это из нескольких примеров) на многих. В наше безнравственное и либертинское время это поражало и внушало уважение. Знаменитые слова и анекдоты, которыми так любят укорять митрополита, были, может быть, даже каким-то клапаном для выхода его острословия, его таланта, наблюдательности и большой начитанности и наслышанности в российской словесности и остроумии.
Вообще же владыка был чист сердцем, как ребенок, очень добр, бессребренник и нестяжатель. Любил дарить книги, одежду, четки, кресты, иконы и т. д.
Однажды в отсутствие келейника Феди зашел к митрополиту какой-то бедный русский кадетик из Сараевского корпуса. Оказался без обуви, в каких-то сандалиях. Митрополит сжалился, велел пошарить под кроватью, не найдется ли какая пара обуви. Нашлись хорошие новые высокие сапоги. Кадет Шура сапоги с благодарностью взял, обулся и пошел щеголять в новых, фасонных сапогах по городу. Каково же было изумление Феди и растерянность бедного митрополита, когда оказалось, что это были только что Федей построенные себе новые, прекрасные сапоги. Это не послужило поводом для ссоры или сцены между митрополитом и верным келейником. И один был слишком выше этого, и другой был ребенок чистосердечный, нестяжательный и добрый, как и сам митрополит. Но смеялись они оба долго и от всей души, а потом Федя многим об этом со своим заливистым, высочайшим смешком повествовал, хлопая себя по коленям.
Поэтому владыка очень неодобрительно относился архиереям из вдовых священников, за которыми тянется длинная вереница родственников, племянников, зятьев, шуринов и прочее, что все ложится бременем на бюджет архиерейского дома или монастыря. Вообще любил монашество, самый принцип несвязанности ни миром, ни семьей, ни общественными предрассудками. Любил монашескую нестяжательность и чистоту души у тех, кто их умел нескверно соблюсти в иночестве.
Владыка Антоний несомненно был умным человеком и даже очень умным, но, во-первых, его ум был, так сказать, совсем необработанным; остался в сыром виде, как неграненый камень-самородок, а, во-вторых, не в силе ума было главное очарование и могущество митрополита.
Митрополит поражал, как уже было сказано, феноменальной начитанностью в тексте Писания, но совершенно не знал и не хотел знать достижений науки в области анализа текста. У него есть толкование на пророка Михея, где автор разбирает книгу, анализируя еврейские слова подлинника и доискиваясь смысла сказанного, но всегда его толкование обращается к нравственной стороне дела, как у александрийцев оно в свое время устремлено было на изыскание аллегорического смысла. Он презирал исагогику, критику, сравнительный метод, все это пренебрежительно называя «тюбингенщиной», главным образом потому, что, ознакомившись с крайними и не во всем удачными первыми выступлениями Баура и др., он не знал последующих трудов. Он просто совершенно не представлял себе того, что сделала библейская наука, не только протестантская, но и консервативная католическая, не пренебрегшая, однако, критикой и филологическим анализом. Для него было почти откровением, что Харнак в последние годы сдал многие тюбингенские позиции, что работа Лагранжа по критическому разбору, казалось бы, разрушительному, привела к положительным результатам, к выводам, против которых уже ничего не сможет сделать в десять раз более страшная тюбингенская критика, буде она явится.
Он, смею это утверждать, презрительно отмахивался от проблемы неподлинности той или иной книги, не дав себе труда вникнуть, что это значит, на чем это основано и к чему это приводит. Говорить на эти темы было просто бесполезно. Ведь любопытно, что владыка совершенно серьезно хотел вернуться и звал ученых толковников текста вернуться к… Тихонию Донатисту, экзегету IV века. Это было оригинально, свежо, остроумно, в чем-то, конечно, верно, но этим же не исчерпывалась проблема толкования текста.
Я говорил, что митрополит был отрицателем мистики, им своеобразно отождествляемой с хлыстовским экзальтированным порывом, он был нечувствителен к историческим проблемам и вообще не любил истории, он совсем не знал, например, всей проблематики истории религии, не читал ничего из работ Венской школы и журнала «Анфропос», не знал работ Пинар-де-ла-Булле и т. д., не знал вообще многого такого, что теперь неизбежно богослову прежде всего знать и изучить, а потом уже отрицать. Митрополит отстал от науки уже давным-давно. Он, например, любил предлагать как темы для публичных лекций критику Ренана. В свое время это ему очень удавалось и было исторически необходимо. Но когда ему говорили, что в науке выдвинуты новые взгляды, когда появились новые гипотезы, основанные на новых открытиях в области истории мифов и прочее, что надо знать прежде всего все эти открытия, а затем и искать оружие против неправильных из них выводов, он умолкал, как-то болезненно-обиженно улыбался, и было его жалко.
Обладая сам очень острым от природы умом, но умом не изощренным в тонкостях научных методов нашего времени, Антоний поэтому и считал ученостью только то, что исходило от природной силы ума. Он отрицал эрудицию, потому что в ней не видел творчества. А признавал научное делание только самобытное, только творческое,только раскрывающее что-то новое, будь то толкование священного текста или изложение какой-нибудь нравственной или догматической истины. Помню, как он однажды при мне презрительно сказал о какой-то очень ценной русской исторической монографии: «Да ведь это компиляция; все с немцев содрано…» Напрасны были все мои попытки доказать владыке, что то, что он называет «компиляцией», а что правильнее было бы назвать библиографической эрудицией, необходимо нужно для успешной работы над предметом. Он не понимал или не хотел понять того, что эти компиляции избавляют дальнейшие поколения ученых от необходимости самим проделывать всю ту аналитическую работу, которую проделал «компилятор». Его раздражало перечисление всех мнений ученых экзегетов текста. Ему хотелось иметь ясный ответ на тот или иной стих Писания, или вскрыть общую мысль книги, совершенно не углубляясь в то, что могут быть влияния, источники, школы, направления. Все книги Писания были автентичны. Весь текст был неповрежден. Вопрос интегритета его просто раздражал. Также раздражали его уточнения какой-нибудь хронологической даты. А пуще всего он сердился при вопросе об «антиохизме» или «александризме» в богословии…
Да, в свое время архимандрит Антоний многих и многих спас от Ренана, показав всю его дешевку. Тогда Ренан был в моде и был опасен. Наше время знает Древса, Делича, Вельгаузена и многих других, против которых нужно иное оружие, выкованное в более серьезной научной лаборатории. То же можно сказать и про многие другие области историко-богословскоговедения. Антоний, как и многие наши консерваторы среди благочестивых архиереев и мирян, смертельно боялся вопроса о неподлинности источника. Он считал достижением, скажу больше, панацеей против всей ветхозаветной критики диссертацию Фаддея (Успенского) о единстве книги пророка Исайи. Он просто не понимал, что значит критика текста, в чем проблема интегритета или автентичности текста. Он был более в этом отставшим, чем знаменитый профессор Санкт-Петербургской Академии ученый протоиерей Герасим Павский, который еще во времена Филарета говорил о не-единстве пророка Исайи, и лекции которого были с разрешения тогдашнего начальства литографированы, и по ним студенты сдавали свои экзамены. Точно так же я его однажды насмерть огорчил, доказывая ему неподлинность Ареопагитиков, или что IV и V книги против Евномия написаны вовсе не св. Василием Великим, а, вероятно, Дидимом Слепцом, и т. д. и т. д.
Был ли Антоний поэтому обскурантом? Отнюдь нет! Утверждаю это со всей решительностью. Просто он был сын своего века. Он остановился в своем научном развитии в то время, когда богословская наука и в России, и на Западе начала проходить свой интереснейший этап. Митрополиту не хватало прежде всего нашей теперешней научной эрудиции, известной дрессировки научного сознания. Но он не отрицал науку, не запрещал искать. Ему, может быть, было даже и чуждо все это историко-критическое исследование. Ум его был направлен на другое. Характерны его не-историчность и не-мистичность. Не побоюсь сделать смелое обобщение: Антоний был сын позитивистического века, он начал борьбу против протестантского рационализма, против латинской схоластики, и сам с ними боролся оружием рационализма! В каком-то смысле он был позитивист (конечно, не в вульгарном смысле, не в духе отрицателей 70-х годов). Но, конечно, не ум, – будь он природный и неотшлифованный, или искушенный эрудицией и библиографиями, – был главным и могущественным оружием Антония. Антоний не теоретик только нравственного значения догматов и морализирования в теологии. Антоний был сам исключительным носителем высокого нравственного авторитета.
Филарет Московский покорял своей мудростью, Болотов и Глубоковский раздавливали всем колоссальным грузом своей начитанности и владением научным методом, Иоанн Кронштадтский прежде всего был молитвенник и т. д., а Антоний покорял, очаровывал силою своего нравственного влияния на молодежь. Он незаметно, как-то автоматически опутывал молодые души силою своего пастырского влияния, своей сострадательной любви. Он не только проповедовал эту любовь, но он ее осуществлял. Он болел с грешником, переживал его грех, как свой собственный. Как он и сам говорит, в пастырском сердце это сострадание, это совместное переживание не дает уже места отдельному «я» от «ты»; в нем уже только одно «мы». Он так близко принимал к сердцу грех другого человека, потому что это нарушало дело Христова искупления, это вносило дисгармонию. В этом он напоминал, как ни парадоксально такое сопоставление, архимандрита Феодора Бухарева, который просто страдал и мучился малейшими проступками студентов Академии, так как это нарушало искупительное дело спасения Христом всего человечества. (Боже, что бы сказал Антоний, если бы узнал такое мое сравнение его с «расстригой» Бухаревым!). Антоний был воплощенная нравственность и совесть, хотя бы и у него были свои мелкие грехи и, может быть, даже крупные заблуждения.
В 1935 г. к 50-летнему юбилею Антония ему написал исключительное по искренности письмо профессор А. В. Карташев. Он, между прочим, писал: «Вы человек с душой огромного, почти сверхчеловеческого калибра. Дело не в талантах только ума и культуры, а в чрезвычайной широте и зоркости сердца, властно охватывающего людей подобно тому, как охватывает их родительская любовь, мать-природа, сила красоты или сила благодатная церковного богослужения. Нечто самоочевидное, бесспорно ценное, перед чем невольно замолкает и трепещет заурядное ничтожество. От В. В. Болотова веяло как бы сверхчеловечностью интеллекта. От Вас идут волны таких же озарений сердца и совести… Я считаю, что не быть Вами очарованным, по крайней мере, эстетически, если не духовно, могут только люди нецерковные и бездарные… Взирая на пламенеющий костер любви в Вашем широком святительском сердце, я не могу не лобызать его с дерзновением духовного сына, укрепляемого Вашим влекущим образом всецелой преданности Господу Иисусу Христу и Его Святой Церкви в плоти нашего родного русского православия». Многое еще хотелось бы записать о митрополите, но довольно и этого малого. Это – мало, ибо и малое время знал я его. Мне не дано было видеть его утреннюю звезду, восходившую на Востоке русского неба в 90-е годы прошлого века; я не видел яркого и светлого сияния Антония в полдень его жизни; мне дано было с ним встретиться тогда, когда же «к вечеру преклонился день» его жизни, но я счастлив тем, что я видел его «тихий свет святой славы», что я на «западе его солнца» облобызал его хладеющие руки, которые на меня низвели огонь апостольской благодати.