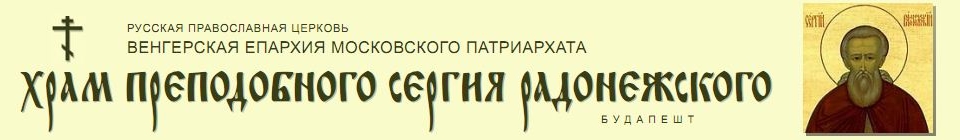ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА
ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ
РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
ПЛАН ПРОЕЗДА
О ПРИХОДЕ
СЛОВО НАСТОЯТЕЛЯ
СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ
ЖИЗНЬ В ЦЕРКВИ
ХРИСТИАНСТВО
В ВЕНГРИИ
ПРАВОЛСЛАВНАЯ
МИССИЯ В МИРЕ
НАШЕ ПРОШЛОЕ
И НАСТОЯЩЕЕ
МУЧЕНИКИ
И ИСПОВЕДНИКИ
ХРИСТИАНСКИЕ ПРАВЕДНИКИ
ЦЕРКОВЬ
И ГОСУДАРСТВО
СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
ВОСПОМИНАНИЯ
И ДНЕВНИКИ
ВСЕХ ИХ СОЗДАЛ БОГ
СОВЕТЫ ВРАЧА
БИБЛИОТЕКА
СТРАНИЦА РЕГЕНТА
ФОТОГАЛЕРЕИ
ДУХОВЕНСТВО ХРАМА
НАШИ РЕКВИЗИТЫ
КОНТАКТЫ
ССЫЛКИ
Мистика была для митрополита Антония почти то же, что и хлыстовство. Он не отличал подлинно церковной мистики наших исихастов от неправославной аффектации крайних католических проявлений мистики. Люболытно ведь и то, что владыка очень осторожно относился к Иисусовой молитве. «Лучше по молитвеннику молиться, чем четку тянуть и повторять одно и то же в ожидании небесного света». Этим объясняется его крайне непримиримое отношение к имяславию. Известно его и архиепископа Никона (бывшего Вологодского) участие в разгроме афонских имяславцев. Показательно тут не то, что Антоний восстал против крайних проявлений имяславчества, происходивших от дремучей непросвещенности и богословской беспомощности безграмотных мужичков-афонитов, а его абсолютное невосприятие всей проблемы Имени. Антоний был крайним номиналистом. В этом смысле Антонию был абсолютно чужд Платон.
Т. А. Аметистов, большой почитатель митрополита Антония, человек богословски сведущий, очень острого и циничного ума, однажды в минуту безделья в Константинополе сказал митрополиту Антонию по поводу его отношения к исихазму, Паламе, мистике и т. д. буквально следующее:
«Вот я представляю себе, Владыко, что Вы встретились бы со св. Иоанном Златоустом и св. Григорием Паламою и Вы бы им сказали так: ”И охота Вам, преосвященнейший Григорий, писать вещи, которые ни люди не понимают, да и Вы сами объяснить толком не можете, вот взяли бы пример с преосвященнейшего Иоанна: все у него ясно и применимо к жизни, все имеет нравственное обоснование”».
Антоний, конечно, очень оценил выходку Аметистова, поняв всю ее меткость и остроту.
Цельность митрополита проявлялась особенно сильно в его взгляде на Церковь. Он стоял на безусловно правильном и единственно возможном понимании единства Церкви. Церковь – одна. Других церквей нет и быть не может. Все, что не согласно с этой единой Церковью, в смысле ли вероучительном, в единстве догматического предания или в смысле каноническом, в единстве богоустановленной иерархии, — все это ересь, раскол, самочинное сборище. Этот взгляд для многих может показаться слишком формальным, слишком упрощенным, слишком узким. Да! Митрополит Антоний был очень далек, просто совершенно не конгениален современным нам так называемым экуменическим настроениям, когда боль о разделении церковного единства и чувство братской любви к иноверным и инославным приводит к такой уже широте и такой догматической и канонической индифферентности, что границ Церкви вообще не видно, что разницы между богоустановленной иерархией и самосвятами незаметно, и готовы устраивать общение в молитве со всяким, называющим себя священником, но не имеющим на то никакого ни формального права, ни основания по существу. Тайна Церкви остается всегда тайной. В основе учения о Церкви лежит восприятие Ее как мистического Тела Христова, и одними только формальными определениями катехизиса, что Церковь есть общество верующих, объединенных одной верой и т. д., не исчерпать всей проблемы Церкви. Но от катехизиса митрополита Филарета до Стокгольмских, Эдинбургских и Оксфордских постановлений очень далеко.
Митрополит Антоний стоял на точке зрения канонов, соборных постановлений, на учении Киприана Карфагенского и вообще святых отцов, на учении, вполне разделяемом и римо-католиками: что не согласно с Церковью, основанной на единстве вероучения и единстве иерархии, все это – не Церковь. Поэтому митрополиту и была близка диссертация архимандрита Илариона (Троицкого) и учение А. С. Хомякова. Молясь о единстве Церкви, владыка всегда понимал эту молитву как прошение о воссоединении еретиков и раскольников к православной Церкви. В этом он был близок с римо-католиками. Церковь – одна, поэтому Рим и не может стоять на равной линии с англиканами, лютеранами и протестантами. Поэтому-то Рим и не участвует как равный на экуменических съездах, а присутствует только как наблюдатель и сторонний судия, судящий с точки зрения не комбинаций и соглашений разных заблуждений, а с точки зрения единой, непреложной и никогда не меняющейся церковной позиции и церковного критерия.
Но владыка совершенно так же расценивал и самое католичество. Рим для него был так же еретик и больше ничего. Он отрицал у католиков все, кроме права называться еретиками. Их таинства – не таинства. Их священство – не священство. Их иерархия безблагодатна. Известен его афоризм, что папа – простой мужик. Тут-то, как мне кажется, митрополит не различал основного в так называемой экуменической проблеме, а именно: одно самосвяты, англикане и раскольники, беспоповцы-лютеране, а другое – Рим с его непрекратившейся апостольской преемственностью иерархии, с святоотеческим преданием, с единством учения, с общением святых, с почитанием, перешедшим в особый культ, Богоматери и Ее непорочного зачатия, с таинствами, признаваемыми и нами, с чудесами. Как мне представляется, подлинная боль и язва церковной проблемы именно в вопросе нашей отделенности от Рима, а не в потугах уступничества и соглашений с разными самосвятными сообществами, возникшими из Лютерова и Кальвинова откола от Римской церкви.
Митрополит Антоний смешивал эти две проблемы. Он одинаково судил и о латинах, и об англиканах или лютеранах. И если можно, и даже должно требовать безоговорочного присоединения всех этих отщепенцев от подлинного предания и иерархического начала к Единой Церкви, и если только такой, на мой взгляд, подход к экуменической проблеме и возможен, то в отношении к римо-католицизму митрополит не понимал всей остроты вопроса и зачеркивал все, что требовало внимательного и осторожного изучения. Изучения и соборования [в данном случае соборного суждения – ред. Вопросы истории РПЦЗ] разумею настоящих богословов в мирной обстановке молитвенного единения, в любви, а не шумных съездов сотен разношерстных деятелей и дельцов без единства богословского авторитета, без общего языка предания и критериев, без единого плана и программы. Съездов, где на одинаковой линии стоят лица, совершенно различные по всему: греческий митрополит, либеральствующий профессор в священном сане или просто мирянин, дилетант, церковный публицист без какого бы то ни было патента на богословское образование, юные студенты англиканских колледжей, девицы из анонимных и таинственных мировых организаций и референты-чиновники Интеллиженс Сервиса. И все это, ездящее на чей-то счет в слипингах и аэропланах, останавливающееся в лучших отелях, в течение двух недель обрабатывалось афишами, брошюрами, речами, собраниями и т. д. В конце какие-то резолюции, скороспелые признания действительности иерархии и рукоположений (?) со стороны румынской церкви или либеральствующего богослова с Балкан, – и все это в обстановке международного напряжения, желания загарантировать свои границы и наскоро сделанные территориальные приобретения, вожделений о нефти и экономических рынках и т. д. и т. д.
Это все претило здоровому чувству святоотеческого и церковного предания покойного митрополита. Претило так же, как оно претит и сознанию католических богословов, которые на это могут только снисходительно смотреть, регистрировать и ждать удобного момента в минуту разложения всего этого искусственного сцепления присоединить к Риму какую-нибудь группу таких деятелей.
В этом было вполне понятно основное чувство настороженности и даже брезгливости у владыки по отношению ко всей этой шумной деятельности. Но нельзя не жалеть о его полной нечувствительности в вопросе разделения с Римом. Он ставил на одну линию Рим и англиканство.
Митрополит мыслил о Церкви и о догматах в духе древних канонов. Он подчеркивал всегда в прошлом церковной жизни те прещения и канонические постановления, которые в наше время всецело забыты. Отлученного соборным постановлением от единства церковного считал возможным принять только через установленный чин покаяния или миропомазания. Он умилялся тому, что на Востоке у греков (равно как и у наших старообрядцев) продолжает существовать запрещение причащаться по 3, 5, 7 и больше лет. Раскольника или еретика он считал безусловно вне Церкви. Церковь была для него таинственной жизнью в таинствах, а не мертвым консисториальным аппаратом. Он, как и св. Киприан Карфагенский, не понимал слова «перекрещивание». Еретика можно только крестить, а никак не «перекрещивать», ибо вне Церкви нет крещения.
Он любил эти древние запрещения наших канонов об абсолютном неучастии с раскольниками или еретиками ни в чем. «Даже и из общей чаши не пить, даже и в бане не мытися купно». А когда ему, бывало, задавали тот же вопрос о Церкви в его сотериологическом аспекте, т. е. ставили вопрос о спасении, спасутся или нет те или иные отщепенцы, он отвечал: «Якоже и китайцы, ибо у Бога все возможно».
Невероятно милостивый и снисходительный в отношении личного греха и падения по слабости (влияние Достоевского), он был неумолим и до крайности принципиален и узок в вопросах конфессиональных и церковно-канонических.
Это же отношение к церковно-канонической дисциплине определило позицию митрополита и в вопросе так называемого заграничного раскола. Не входя в обсуждение вопроса по существу, надо все же сказать, что владыка Антоний не остался последовательным проводником своих канонических принципов. В Константинополе в начале эмиграции он отрицательно относился к плану епископа Вениамина (Федченкова) об организации Высшего Церковного Управления заграницей, подчиняясь в Царьграде патриарху Вселенскому. А потом он под влиянием своего мрачного политического окружения организовал сначала на территории Югославии свое управление с Синодом и Собором (в чем очень мешал Сербской Церкви и вызывал большое неудовольствие патриарха Варнавы, который мне это сам неоднократно говорил), а потом распространил свое управление и на всю Европу и даже на весь мир, совершенно не считаясь с канонической традицией о прерогативах Вселенского престола.
Но не этого вопроса собираюсь я здесь касаться, а хочу только вспомнить, что митрополит перенес в очень провинциальную распрю нашего зарубежья атмосферу соборных прещений, канонических постановлений и пр. Карловацкий собор себя считал единственно правым, в доказательство своей правоты и власти начал запрещать, отлучать, а главное, произносить страшные слова о недействительности таинств у евлогиан и т. д. Сколько душ было этим смущено, сколько сердец было лишено на долгое время церковного утешения. Но сам митрополит был в этом вопросе непоследователен и нелогичен.
Нашу эмигрантскую церковную распрю он громко называл расколом, своим соборам придавал значение такое же, какое имели соборы древнего времени, когда и люди и обстановка были совершенно иные по духу и культуре. Он искал Афанасиев и Григориев в обстановке нашего церковного расхождения и был поддерживаем в этих своих поступках и мыслях людьми дурного совета, которые потом сами же переменили окраску и предали его же, Антония. Началась та всем памятная полемика, подтверждаемая канонами соборов V-VI вв., соборными постановлениями, цитатами из святых отцов.
Митрополит, а главное – безответственное окружение политиканствующих его советников, – широко говорили о безблагодатности священнодействий «евлогиан». Митрополит в Белградской церкви совершил вторичное отпевание (разумеется, заочное) почившей Государыни Императрицы Марии Феодоровны, ибо отпевание митрополитом Евлогием он считал недействительным. Страшно и вспомнить! И тут-то у меня (тогда уже архимандрита) произошло крупное недоразумение с митрополитом, т. к. я отказался участвовать в этом отпевании, после чего меня владыка укорил и пригрозил, что сегодня ночью ко мне явится покойная Государыня, как Пиковая Дама. Признаться, и сравнение было неудачным, и настроение, в котором это было сказано, было очень раздраженным. Юпитер сердился. Был ли он прав? Так его настроили его политиканствующие советники.
Что сам он так не думал, видно из неоднократных моих с ним разговоров наедине, в обстановке мирной и благожелательной. Так, например, когда один из наших бывших студентов N,. уехавший в Париж, женился там, кто-то из молодежи сказал об этом митрополиту и спросил его, венчан ли N или это безблагодатное венчание?
Митрополит, разглаживая свою великолепную бороду и насупившись, сказал, стиснув зубы:
«Глупости. Конечно, венчан. Два старых дурака поссорились из-за выеденного яйца, а потом раздули». Вот в этом весь Антоний с его непоследовательностью. Еще лучшим доказательством его настроения была самая сцена «примирения» его с митрополитом Евлогием, приехавшим весной 1933 г. в Белград и просившим прощения у Антония. Присутствовавшие при этой картине вспоминали ее со слезами. Два старых архиерея лежат друг у друга в ногах, просят о прощении и требуют прочтения каждый над собой разрешительной молитвы. Сцена поистине из патерика древних времен.
А наряду с. этим в течение всего этого мрачного периода «раскола» он заставлял «каяться» в грехе «евлогианства», требовал от клириков, приходящих из юрисдикции митрополита Евлогия, отрицания от своих заблуждений и принимал их через покаяние.
Оставляя в стороне самый вопрос «раскола» по его существу, т. е. прав ли был Антоний, не послушавшийся указа патриарха Тихона, или митрополит Евлогий, принявший этот указ, но продолжавший и далее подчиняться Синоду в Карловцах, а потом от него отошедший и оставшийся в ложном положении после своего неподчинения Москве, к подчинению которой он постоянно призывал, скажу лишь, что непоследовательны были оба митрополита. Евлогий поправил свое положение только тогда, когда он вспомнил, что в Западной Европе, вне пределов автокефальных церквей (Русской, Сербской, Элладской, Румынской) покровителем и главой является Вселенский Престол. Этот акт митрополита Евлогия является актом историческим и незабываемым. Надо только жалеть, что под конец своей жизни, поддавшись уговорам политиканствующих своих советников, он поспешил в Москву, в чем, однако, горько на смертном одре раскаивался. Подчинение Константинополю и было единственным возможным и верным решением нашего изгнаннического церковного бытия. Если бы к нему пришли, или точнее, с него начали в 1920 году, не было бы всех расколов, соблазнов, кощунственных слов и огорчений.
Скажу, наконец, что митрополит Антоний, сам предельно церковный человек, мыслящий в категориях канонов, соборности и святоотеческого предания, начал и в жизнь проводить эти принципы, проводить безоговорочно и остро, забыв совершенно, что среда, в которой он действовал, забыла все эти принципы давным-давно и была совершенно канонически невоспитанна и безграмотна. Он не учел исторически изменившейся обстановки. Сам по своему духу и воспитанию будучи живым носителем церковно-канонических принципов древности, он захотел подчинить этим принципам совершенно расцерковленное общество. Каноны и соборы были просто не по росту и не по плечу русским людям, просыпавшимся после долгой синодальной спячки.
Я несколько уклонился от порядка хронологического. Возвращаюсь к нити моих воспоминаний. В июне 1925 г. я окончил богословский факультет. Предстояло устраиваться на службу. В принципе было мною решено два вопроса: я поступаю на педагогическую службу в духовную семинарию и со временем принимаю священный сан.
По времени я был первым из русских, окончивших богословский факультет. Да и сербов было еще немного. Кроме того, на учебно-духовную службу было в то время и не так много охотников. В Министерстве Вероисповеданий я подал прошение о зачислении меня в духовную семинарию преподавателем. В Королевстве С.Х.С. было всего пять духовных семинарий: в Сремских Карловцах, в Призрене, в Сараево, в Цетинье и в Битоле. Когда чиновник принимал мое прошение, он спросил меня, какую семинарию я предпочитаю, думая, вероятно, что я буду проситься либо в Карловцы, как резиденцию патриарха и ближайшую к Белграду семинарию (всего один час с четвертью езды), либо в Сараево, как очень приятный город, столицу Боснии, и семинарию, считавшуюся хорошей. Он был весьма удивлен, когда я попросил Южную Сербию (т. е. в просторечии Македонию), и именно Битоль. У меня было желание, вполне продуманное, уехать подальше от Белграда, посидеть в тишине и глуши, подумать перед принятием священства; это была первая причина. Вторая – я знал в Битоле преподавателя семинарии архимандрита Николая (Карпова), бывшего студента Московской Духовной Академии, который впоследствии меня и постриг в иночество. Кроме того, у меня было какое-то необъяснимое влечение, еще с детских лет, со времени Балканской войны жить в городе с этим привлекательным греческим именем Монастырь.
Прошение было принято, но ждать пришлось очень долго. Летом министерства работали вяло, восточный принцип «яваш-яваш» (т. е. потихоньку-потихоньку, или по-сербски «по лаку-по лаку») процветал в полной мере, а потом под конец лета в Цетинье были торжества по случаю перенесения праха Негоша, митрополита Цетиньского и известного сербского поэта, автора «Горски Зенац». Все министры, да, кажется, и король, уехали на эти торжества, и до поставления новых преподавателей семинарии мало кому было дело.
Я скучал без дела в неизвестности. Чувствовалось, кроме того, что белградские годы прошли, перевернулась какая-то страница жизни, страница очень яркая, светлая, свежая, но уже пережитая, и что надо начинать новую главу. Многое в Белграде тяготило, напоминало то, что хотелось забыть. Мои друзья готовились к конференции студенческих кружков, собиравшейся в монастыре Хопово, с которым связана была вся наша жизнь в Белграде. Я на конференцию решил не ехать. Там собрались многие интересные люди: митрополит Антоний, сербские епископы, м. игумения Екатерина, о. Сергий Булгаков, о. Иустин Попович и очень многие друзья.
В субботу я стоял в алтаре русской церкви у всенощной. Вдруг мне сказали, что меня хочет видеть только что приехавший из Парижа профессор Богословского Института С. С. Безобразов, живший до того в Белграде. Он ехал в Холово на съезд.
Я очень обрадовался приезду Сергея Сергеевича, которого всегда очень любил. Он мне передал, что Богословский Институт предлагает мне быть своим профессорским стипендиатом для подготовки к кафедре литургики. Предложение было исключительно заманчивым. После факультета сразу же возможность готовиться к профессорскому званию, жить в Париже, работать в обществе о. Сергия Булгакова, проф. Карташева, Зеньковаского, С. С. Безобразова, всех моих друзей по Белграду, которые постепенно переселялись в Париж. А с другой стороны, поданное прошение на сербскую службу, семинария, македонский городишко, глушь и, конечно, никакой связи с Европой и, может быть, окончательный разрыв со всеми теми, кто был так дорог все эти годы.
Надо было решаться. К моему первоначальному решению о семинарии присоединялось нравственное обязательство отработать сербам то, что на меня затратили, как-то и чем-то отплатить тому народу и королю, которые мне спасли жизнь и дали возможность стать человеком. А с другой стороны, подготовка к профессорству в Париже или в Оксфорде, возможность скорого получения степени, жизнь в центре мировой культуры и русского рассеяния.
Наутро я решил с первым же поездом поехать в Хопово, посоветоваться прежде всего с митрополитом Антонием, с о. Алексием Нелюбовым и о. Петром Беловидовым, моими духовными руководителями и друзьями, повидать и о. Сергия Булгакова и посоветоваться с моим зятем, который тоже поехал на съезд послушать и посмотреть.
В Хопово я поспел, придя со станции пешком (16 километров) к концу литургии. Тотчас же после ее окончания я всех нужных людей повидал, но не сразу мог определить свое решение. В сущности, за мою поездку в Париж стоял только один о. Сергий Булгаков. Отец Алексий и хотел, и не хотел моего туда отъезда. И надо сказать, что его опасения я вполне разделял и его желаниями я тоже вполне был проникнут. Отец Петр Беловидов не сказал решительного «нет», но я знал, что он не сочувствовал ни Парижу, ни Богословскому Институту, ни моему туда вызову. Зять мой был тоже сдержан, но мнения своего не высказывал, чтобы не связывать меня. Оставался суперарбитр, митрополит Антоний.
«Да, да, мой милый. Вам предлагают в Богословский Институт. Конечно, Вам там место, потому что Ты человек науки и книги. Конечно, это для Вас очень хорошо. Но все-таки, лучше Вам сначала пройти через преподавательство в средней школе, в семинарии. Семинария вас научит гораздо больше и жизненным вопросам и самим богословским предметам. Вы в семинарии будете вынуждены преподавать и Священное Писание, и историю, и литургику и т. п. А в высшей школе Вы станете сухим и узким специалистом. Если будете преподавать историю, то станете специалистом по Карлу Великому или по арианству; а если будете догматику читать, то только одним каким-нибудь вопросом займетесь и засохнете».
Трудно было мне в тот день вынести окончательное решение, но все же под вечер, не вполне уверенно, я ответил о. Сергию: «Нет». Я знаю, что он был очень огорчен, так как любил меня и хотел меня видеть в Париже. Я думаю, что митрополит, который так и не сказал определенно свое окончательное мнение, все же в душе не хотел моего отъезда к митрополиту Евлогию. Думаю также, что он не был вполне свободен в своем совете мне. Потом я понял, что близкие мне люди высказывали ему свое опасение и нежелание моего перехода в Париж. Думаю также, и даже больше того, уверен, что эти люди были правы. Тогда в Париж мне ехать было не полезно. Мне нужно было пройти свой путь по Востоку, и надо сказать, что Промысл начертал для меня исключительно важный и интересный путь: Македония, Палестина, Египет, снова Македония. А потом, когда обстоятельства сильно изменились, и когда я сам очень вырос и изменился, я попал в Париж и в тот же Богословский Институт.
С болью и горечью шагал я в ту ночь среди виноградников на станцию железной дороги, почувствовав, что я решительно повернул свой корабль в каком-то очень неизвестном направлении, но повернул уже надолго в другие воды. Этим решением в Хопове я как-то отрезал пути отступления. Через месяц я был назначен в Битоль и уехал в неизвестную мне дикую Македонию, страну тогда еще разбойников (качаков), страну Леонтьева, в близкое соседство с Грецией. Это особая глава моей жизни. Пока что продолжаю мой рассказ о митрополите Антонии.
С отъездом в Битоль, естественно, несколько ослабела связь с владыкой. Новая обстановка, новое дело, новые люди по-новому направили течение моих мыслей и интересов. Вместо еженедельных встреч с митрополитом в церкви и частых посещений его на квартире я мог теперь только изредка переписываться с ним. Это было и трудно и неловко. Как-то совестно было беспокоить старца своими незрелыми письмами и своими семинарскими интересами, тем более, что митрополит немедленно же отвечал на всякое письмо. Но все же я ему писал о семинаристах, о преподаваемых предметах, об общей обстановке. Мне пришлось в первый год моего преподавательства среди других предметов взять и нравственное богословие, которое всегда мне казалось трудным для преподавателя и малоинтересным для слушателей. Мы не имели и не имеем своей чисто православной системы нравственного богословия. Все сводится к схоластической системе и перечню добродетелей и грехов в отношении к Богу, к ближнему, к самому себе. Тот же Антоний называл это презрительно «грехологией». Скукой и сухостью веяло от всех наших учебников. Сколько ни приходилось прочитать курсов этого предмета, от всех осталось воспоминание неприятное. Вдохновить, увлечь этот предмет не мог. Если проповедь Христа и апостолов влекла за собою тысячи, если пример подвижников благочестия древнего христианства порождал поколения последователей и учеников, то от семинарских и академических курсов несло невероятной тоской и затхлостью. И семинарский курс Солярского, и «Система» епископа Стефана Курского, и учебники Олесницкого, Бронзова, Янышева могли только отбить всякую охоту быть нравственным, если под этой «нравственностью» надо было понимать христианскую жизнь и делание. Ничем не лучше был огромный том Мартинсона, протестантского теолога. Я об этом всем писал митрополиту Антонию, жаловался, вспоминал его наставления и мысли. Он, помню, посоветовал мне «Начертание христианского нравоучения» епископа Феофана Затворника. Это мне очень помогло, за что я очень остался признателен и митрополиту, и самому Затворнику, которого вообще мало люблю и которым не увлекался (кроме как его замечательными толкованиями на апостольские послания). Особенно мне понравилось не схоластическое понимание добродетели и греха, как доброго или злого дела, положительного или отрицательного факта духовной жизни, а скорее как состояния души.
Как-то раз, кажется, еще в мои студенческие годы, владыка Антоний говорил, что нравственное богословие надо было бы преподавать по Добротолюбию и по Постной Триоди. Это, конечно, суженный взгляд. Эти книги хороши для аскетики, тогда как нравственное богословие одной аскетикой не ограничивается.
Я был очень рад, что на второй год моего пребывания в семинарии я отделался от «Моралки», как звали ученики Нравственное богословие, а остался при Апологетике, которую я все больше и больше сводил к религиозной философии, и при греческом языке, который я тогда научился уже любить крепко и на всю жизнь.
Во внеклассных делах я старался следовать советам владыки из его прошлой педагогической деятельности. Вспоминал его рассказы о его близости со студентами и семинаристами. Конечно, сербская обстановка существенно иная, чем наша русская; среди сербских семинаристов не было тех настроений, которые вдохновляли молодого иеромонаха и архимандрита Антония Храповицкого. Нельзя было забывать, что это Балканы, и что только что в этой стране отшумели бури трех войн (турецкой 1910 г., балканской 1912 г. и великой 1914-1918 гг.). Но в общем я старался руководствоваться советами владыки. Я воспринял от него веру в молодое сердце и молодой ум. Конечно, и дистанция была огромного размера между «Великим Аввой» Антонием и маленьким преподавателем, вчерашним Кернушкой. Но все же у меня завязались крепкие дружественные связи с многими семинаристами, русскими и сербскими. Долго спустя приходилось встречаться в Белграде, или в поезде железной дороги, или в каком-нибудь селе со своими бывшими питомцами, и, кажется, плохих встреч я не помню.
На Рождество я оставался в Битоле, а на Пасху и на летний вакант ездил в Белград. Но, помнится, новое дело так увлекало, что я с трудом дожидался конца каникул и старался на два-три дня раньше приехать в семинарию и в «мой» Битоль, который действительно скоро стал моим. Этот город, полуразрушенный, но полный греческих и турецких воспоминаний, какими-то тенями Леонтьева привлек меня к себе крепкими узами любви. На Пасху 1926 г. я поехал в первый раз из Битоля в Белград. Поехал с архимандритом Николаем. У меня, собственно, было уже решение принять пострижение. Отец Николай меня очень поддерживал; передумывая свою жизнь за эмигрантские студенческие годы, я пришел к этой мысли. Но, теперь, оглядываясь назад, скажу, что тогдашнее решение мое все же не было свободным от многого: от некоего влияния самого Антония, во-первых, от разговоров с о. Николаем, а также и от переписки с архиепископом Феофаном Полтавским, который дарил меня своим доверием и любовью. Много, конечно, значил и эстетический момент. Решительнее же всего, пожалуй, было настроение некоего пессимизма, мне в сильной мере присущего, некоей, если не разочарованности, то все же сознания неудачи в жизни. Появилось какое-то безвкусие к жизни, ощущение какой-то пресности и никчемности. Теперь я вижу, что с такими настроениями не делают решительных шагов в сторону священства, а тем более монашества. Но тогда меня все равно никто бы и никогда не переубедил. Как и во многом в жизни, нужен был свой, автентичный опыт, а не советы других, хотя бы и во сто раз более мудрых людей.
Как бы то ни было, я на Страстной неделе был у митрополита и сказал ему о своем желании. Я был уверен, что митрополит тут же меня расцелует и несказанно обрадуется моему решению. Как же по-другому? Антоний-то? Не постричь молодого человека?
И как это ни странно, митрополит, который никогда никого не отталкивал от монашества, велел мне ждать. Сколько? Ну хотя бы год…. Так я и уехал в Битоль все тем же Кернушкой.
Зима 1926/1927 учебного года была последней в моей светской жизни. Осенью, начиная учебный год, я еще не знал, что закончу его уже в духовном сане. До Рождества я еще не был твердо уверен в моем будущем. Случилось все как-то почти само собой. Святки были очень оживленные, в русской колонии было много вечеров, а колония в Битоле была довольно большая благодаря скоплению в городе и в округе многих русских инженеров, врачей, преподавателей, землемеров и просто рядовых беженцев. Но я почти нигде не бывал, кроме разве двух-трех домов, да и то неохотно. Семинария меня увлекала. Я много работал над греческим языком, сравнивал перевод богослужебных книг с оригиналом, занимался Священным Писанием, читал Феофановские толкования на апостола Павла, выписывал себе много книг из Австрии от Хердера и из Германии от Фока, пополнял свое образование, правда, пока что без особой системы, Впрочем, много работал над вопросом эпиклезы, о чем после писал и в сербских журналах, и потом в своей книге «Евхаристия» уже в 1946 г. в Париже.
Но после Святок вдруг как-то все сразу переменилось. Внутри словно что-то оборвалось. А главное, крепло чувство, что в жизни что-то кончилось, чтобы не сказать, что сама жизнь кончилась. Стало все кругом неинтересно. Книги, церковь, семинария давали много. Тогда казалось, что все так и останется. Будь я не в глухом, зимой снегом занесенном Битоле, а в Париже, с его церковно-научными интересами, вероятно, события сложились бы иначе. Если не ошибаюсь, то 17 января, в день преп. Антония Великого, я пошел в митрополию к епископу Иосифу, с которым у меня тогда были очень прохладные отношения. Я его не понимал, он меня задевал своими выпадами против русских, — а я тогда был очень национально настроен, что потом совсем, после Иерусалима, сгладилось, — он это видел и еще больше меня педагогически выдерживал в своих выпадах, а я еще больше от него сторонился. Ну, словом, я пошел в митрополию и подал ему прошение о пострижении. Он это воспринял иронически, но прошение принял, меня благословил, даже расцеловал. Я просил о пострижении меня в русском монастыре Мильково в Браничевской епархии. Хотелось принять пострижение в обстановке русских трогательных традиций, напевов и среди своих. Было ли это правильно? Не все ли равно, где и как отрекаться от «красных мира»? Да и было ли это настоящим отречением?
Переписка с митрополитом Антонием, с епископом Браничевским Митрофаном, со всякими священническими портняжными заведениями заняла немало времени. Я попросил меня отпустить на Пасху раньше времени. На пятой седмице поста я был уже в Белграде, примерял подрясник и рясу, клобук и мантию. Жил в какой-то обстановке обреченности. Раз решено, сказано, написано, дело идет, надо следовать раз принятому решению.
В Белграде я не задержался. Очень скоро я поехал в Мильково. Накануне вечером, в привычной и такой родной обстановке нашей квартиры на Приштинской улице на меня, помнится, напал приступ сомнения, почти протеста. Я испугался, заколебался. Сидел на своей кровати, и мои близкие поняли, что со мною нехорошо. Помню, сердобольная душа, всегда и повсюду меня опекавшая и мною болевшая, неуверенно спросила:
«А может быть, лучше обождать? Может быть, потом – летом или через год?»
«Да не все ли равно, сейчас или через год делать этот шаг? Раз делать надо, то делать скорей».
«Да, милый, но ведь возврата нет. Нельзя же принимать такое решение втаком состоянии».
Это был нелегкий вечер. Но и он прошел.
А впереди были еще более нелегкие дни в Милькове. Это было почти невыносимое нравственное терзание. Даже и вспоминать не хочется. Поэтому опускаю подробности. Вкратце было так. Дни до пострига (всего пять или шесть) прошли в необыкновенно подавленном состоянии. Меня охватил ужас, буквально ужас. Что я делаю? Куда я, безумец, бросаюсь?
Кроме обычного настроения перед постригом (об этом многие рассказывают), настроения неуверенности и сомнения, меня охватил ужас монастырской общежительной жизни. Не тот факт, что я от всего отказываюсь и не смогу в будущем иметь какую-то собственность или буду есть всегда постную пищу А тот факт, что монашество – это беспросветный физический труд; это окружающая среда безграмотных мужиков; это сфера интересов о сегодняшней трапезе, о монастырских новостях, о том, кто завтра служит и т. д.
Я к этому миру и к этим интересам и не привык, и не хотел привыкать. Физический труд мне всегда внушал отвращение. Полоть траву в огороде или увлекаться сенокосом, уборкой хлеба, ссыпкой картофеля я никогда не мог. И в былое время на Сеже я скучал от постоянных беспокойных взглядов на барометр, поднимается он или падает, от этих разговоров о том, что Знейка захромала, а гнедая кобыла жеребая, а Бесенок набил холку и т. д. Я всегда любил деревню, но не как раб хозяйства и помещичьей сельскохозяйственной обыденности. Я всегда презирал «дачников», которые не отличают пшеницы от ржи, не умеют запрячь лошадь или смазать колесо в телеге и проч. Но наряду с этим я никогда не мог увлекаться землею, свиньями, лошадьми, посевом, словом, всеми интересами Константина Левина.
Народником я тоже никогда не был. Поэтому монастырь, как средоточие сельскохозяйственных интересов, как мужицкий мир, как принципиальное обскурантство, каковым был Мильково (кроме самого настоятеля о. Амвросия) и, думаю, большинство наших русских монастырей, кроме разве Оптинского скита, где переводили святых отцов и писали книги, — был мне по существу чужд.
Тогда, совершенно не думая о том, о чем я потом много думал, говорил и писал, т.е. о монастырской жизни как у бенедиктинцев или доминиканцев, я это все же нутром и очень глубоко прочувствовал и переболел.
Кроме того, и это самое главное, я совершенно не проходил и не прошел послушания в монастыре. Как все русские монахи-академики, я принимал пострижение прямо «от мирского естества». Меня не научал ни один мудрый и ровный настоятель; надо мною не был произведен тот психоанализ, который надо произвести над всяким, кто решается на путь духовной жизни; я не прошел школы послушаний в огороде, в швальне, в кухне и проч., что необходимо и для нас, белоручек-монахов «из ученых». Я попал в сугубо «толченую» среду. Я ее не хотел, принципиально не любил. Мне хотелось тихой монастырской обстановки большого бенедиктинского монастыря, с его библиотекой, с учеными и умными донорами и с своим собственным журналом, с семинарией внутри этого же монастыря, с визитациями разных умных и ученых прелатов и аббатов и пр.
Я провел эти дни перед постригом просто в состоянии неприязни и ненависти к этому образу жизни. Огород, грязные келии, разговоры не о книгах по Священному Писанию или о Патрологии Миня, а о том, что о. Макарий сказал то-то и то-то, а о. Иувеналий ответил ему так-то.
Между службами в холодной церкви и работами в огороде (был конец марта) я ходил, как в воду опущенный, унылый и, помню, призывал Бога хоть как-нибудь положить предел этому мучению. Пусть сегодня-завтра меня постригут, а там сейчас же уеду обратно в семинарию. Там книги, ученики; буду служить. Начну жить по-новому.
Сочувствующим свидетелем всех моих переживаний был мой бывший ученик по семинарии Сережа Анисимов. Он сам побывал несколько лет тому назад на Афоне, видел тамошние монастыри и немало думал о монашестве. Видя мои внутренние волнения, допытываясь от меня, что со мной и в чем дело, он очень мне внутренне сочувствовал. Я ему говорил о моих сомнениях, о внутренней тяжести, о неприятии мною всей этой атмосферы, главным образом, этого мужичества. Он мне очень помогал. Но дело шло своим чередом, приехал архимандрит Николай, которому митрополит Антоний поручил совершить пострижение. В пятницу на 6-й неделе Великого Поста должен был приехать епископ Браничевский Митрофан, который хотел присутствовать на постриге.
Я, помню, в этот день сжег последние свои мирские «реликвии» и воспоминания, с которыми мне было очень трудно расстаться. Вижу и в этом неправильность того, как дело шло. Все это было как-то искусственно, внешне, а не из нутра идущим, не результатом пережитого и пережженного в монастырской тиши процесса внутреннего созревания.
Вспоминаю все эти дни с чувством гнета и тоски даже и теперь. Вижу всю неправильность в нашем русском приятии монашества в условиях вне ученого монастыря, вне своей, конгениальной среды. Потом из многих разговоров, из чтения многих книг, святых отцов, аскетических сборников, воспоминаний и проч. я понял, как в корне неверно поставлено это дело у нас. А знакомство впоследствии на Западе с монастырями типа Солемм, Сольшуар, Амэ и др. только меня укрепили в моем мнении.
Не останавливаюсь больше на этих подробностях моего последнего мирского дня. Началось в обычное время повечерие, а потом и утреня Лазаревой субботы. Я до этого исповедался у своего старца о. Амвросия. Кстати, и тут было искушение. До последнего дня я еще не выбрал себе духовного руководителя моей новой жизни. Я думал о совсем другом человеке, и слава Богу, что Бог меня от него уберег, ибо наши пути потом диаметрально разошлись. Отец Амвросий был очень опростившийся человек, очень цельный, монах по природе, добрый, всецело восприявший Антониевское понимание священства как сострадания ближнему. В прошлом он окончил филологический факультет Варшавского университета, а в среднем образовании он был семинарист.
Запели Великое славословие. Послышались терзающие сердце и незабываемые звуки «Объятия Отча…» Не описываю чина пострижения, всем известного. Я, конечно, не знал своего будущего имени. Хотел быть или Филаретом, или Никодимом, или Алексием. Впрочем, и тут я был пассивом в ожидании. Я и не знал, какая мне грозила участь. Архимандрит Николай, любитель неожиданных имен, хотел меня назвать Кукшей, и только запрещение митрополита Антония, которому он перед отъездом в монастырь это сказал, избавило меня от этого неблагозвучного имени. Сам Антоний, оказывается, мне выбрал имя мое. Он колебался между Климентом (в честь Климента Охридского) и Киприаном.
Он сам объяснил свой выбор. Св. Климент, ученик святых Кирилла и Мефодия, святительствовал в Охриде, т.е. в ближайшем соседстве с Битолем. А св. Киприан, родом серб, был Киевским митрополитом.
«Ну, вот и хорошо. А тут русский, приехал к сербам, у них служит, и еще, может быть, будет сербским архиереем».
Митрополит очень верно угадал.
Вообще в моей жизни очень знаменательны даты и небесные покровители. В самом деле: я родился в день святых Кирилла и Мефодия (11 мая [21]), в каковой день и память св. Никодима, архиепископа Сербского (ск. 1325 г.). В этот же день и основание Константинополя. Мирское имя мое Константин, в честь основателя Византии и родом из Ниша, теперь сербского города. Пострижен я с именем св. Киприана, серба родом, киевского митрополита, ученика патриарха Филофея и, вероятно, Григория Паламы, над трудами которого я потом немало поработал. И жизнь моя в значительной степени прошла в Сербии, а духовное поприще, во всяком случае, началось в Сербии. Кстати сказать, в 1933 г. любивший меня и отмечавший патриарх Варнава выставил мою кандидатуру на епископство в Сербской церкви, но я отказался, за что он меня ласково журил и укорял. И частенько мои друзья-сербы говаривали мне за дружеской беседой: «Ну, вы, русские, должны нам одного Киприана. Мы вам дали одного своего, который стал вашим первосвятителем; теперь и вы должны вернуть свой долг». I
Итак, я услышал над собой в положенный момент:
«Брат наш Киприан, постризает власы свои…».
Так я и стал Киприаном, или, как меня чаще называли простые русские люди, Куприян. А мог бы быть и Кукшей.
В день св. Тита 3 апреля я был пострижен. В положенную минуту о. Николай обратился ко мне со словом поучения, которое я, несмотря на мою хорошую память, забыл, но помню, что главной темой было то, о чем мы с ним неоднократно говаривали, а именно, что нет и не должно быть никакого ученого монашества. Он решительно отвергал это деление и отнюдь не сочувствовал моим тенденциям к ученому затвору, к бенедиктинизму в православном, разумеется, облике и направлении.
Слово меня это тогда укололо, но обстановка была такая, что все забывалось по сравнению с переживаемым моментом. Я остался один. Было прохладно. Я открыл на клиросе маленькое окошко. Мигали звезды, цвели яблони. Как сейчас помню их нежный аромат. Помню также очень явственно, что пел в лесу, тут же за алтарем, соловей. Это пение перебивалось шумом полноводной Моравы, под самым монастырем. Я закрыл окно. От времени до времени я оправлял нагоравшую лампаду, кутался в мантию, поправлял надвигавшийся на глаза непомерно большой клобук. В полночь пришли о. Николай и о. Амвросий и по неписанной монашеской традиции пропели мне «Се Жених грядет в полунощи…». До утра я остался один. Ясно помню одно: ужасно хотелось не жить, хотелось смерти, и было так невыразимо спокойно на душе.
В монастыре я остался только до следующего дня, чему, по правде, был очень рад. С дневным поездом с о. Николаем и о. Феодосием (Федей) мы уехали в Белград. У всенощной я был в своей, белградской церкви. Всенощную служил архиепископ Анастасий, который мне всегда импонировал своей большой стильностью. Я и не знал, что очень скоро моя судьба будет тесно связана с ним.
Митрополит Антоний оставался в Карловцах. Встал вопрос о моем рукоположении во диакона. Келейник митрополита, знаменитый Федя, передал архиепископу словесное желание митрополита Антония, чтобы меня рукоположить на литургии следующего же дня, т. е. Вербного Воскресения, но архиепископ, строгий законник, не хотел этого сделать без формального письменного поручения митрополита, что я очень в нем оценил, т. к. форму и законность любил всегда, и очень не любил и не люблю формализм и законничество. Было решено, что после всенощной с тем же Федей я уеду в Карловцы к митрополиту для рукоположения его рукою в Карловцах. С ночным поездом мы прибыли в патриаршую резиденцию. Помню и мое первое представление митрополиту.
Он уже собирался ложиться. Было начало первого часа. Поверх подрясника на митрополите была какая-то розовая фланелевая пижама, так как было еще довольно холодно, от чего весь облик владыки был очень домашний и уютный (и откуда у него оказалась такая непредвиденная церковным типиконом пижама?!). Я подошел к нему и «сотворил учиненное метание», т. е. земной поклон. Боялся, как бы мне не споткнуться и не запутаться в подоле подрясника, довольно длинного, даже и на мой рост.
«А, дорогой мой. Раз-два…… Ну вот, так не запутался в новом одеянии? Ми-илый мой. Ну, что ти есть имя, брате?»
«Грешный Киприан, владыко святый».
«Ну, так, так. Спасайся в ангельском чине. Ну что, доволен своим именем?»
«Да, владыко, очень доволен. Благодарю Вас».
«Ну, так, так. Вот сербы нам дали одного Киприана, а теперь мы им тоже одного возвращаем».
«Да, владыко, но они-то нам дали святого Киприана, а мы им что возвращаем?»
Владыка неподражаемо, по-антониевски улыбнулся.
«А ты знаешь, что тебя о. Николай Кукшей назвать хотел? Но я тебя отстоял. Ну, значит, доволен?»
Но несмотря на все мое неприятие мильковского стиля и радость, что я уехал из этой мало-бенедиктинской стихии, все же в душе у меня сосало чувство какой-то известной неловкости, вроде как угрызения, что я не просидел в церкви положенных трех ночей. Я это сказал митрополиту.
«Ну, это ничего. Я тоже так. И вот всю жизнь толкаюсь на толкучем рынке. Так-то и ты будешь в миру свое монашество проводить».
Тогда я не понимал, как это будет трудно, и как плохо я буду его проводить.
«Ну вот, завтра я Вас буду рукополагать в иеродиакона. Только Вам надо будет завтра до литургии к преосвященному Максимилиану пойти за благословением. А сейчас иди с Федей правило читать».
Наутро я был у викария патриарха, епископа Максимилиана (Хайдина), и в свое время на литургии, в кафедральном соборе св. Николая был рукоположен во иеродиакона. У сербов полагается, чтобы вновь рукоположенный читал не ектению «Прости, приимше……», а просительную перед «Отче наш», т. е. «Вся святыя помянувше…» Прочитал я ектению без запинки, за что после заслужил похвалу митрополита.
«Ты будто много лет уже диаконствуешь. Очень уверенно и хорошо».
Я боялся, не произошло бы какой-нибудь неприятности с хором, не был уверен, попаду ли в тон и не совру ли в музыкальном отношении, но и тут все прошло хорошо.
Был очень страшен момент прохождения через царские врата. Но, в общем, рукоположение во иеродиакона не произвело на меня такого потрясающего впечатления, как само пострижение, а, главное, посвящение во пресвитера. Я все еще жил воспоминанием тишины моей ночи после пострига. От сомнений и терзаний в последние дни перед монашеством не осталось и следа. В сердце было и спокойно, и даже пусто. Чувствовалось, что что-то прошло, что-то вылилось из сердца, и началось что-то новое. Желание не жить продолжалось. И, думаю, если бы пришлось встретить в те дни смерть, я бы это сделал легко и без сомнений.
После литургии викарий пригласил к патриаршему столу и меня. Это было довольно ощутительным контрастом – обедать в обстановке карловацкого патриарха по сравнению с мильковской нищетой и теми обетами, которые я только что произнес. Не могу не остановиться на обстановке патриаршего двора в Сремских Карловцах. До того я никогда не был внутри этого дворца, а только созерцал его извне. Дальше покоев митрополита Антония я не проходил. Во дворе усадьбы стояла «старая Патриархия», гораздо более скромная и уютная. А большой дворец с его широчайшими коридорами, колоннадами, лестницами, скульптурными изображениями, покоями и пр. совсем не гармонировал с понятием об архиерейском доме. Не знаю, каковы были покои митрополита Санкт-Петербургского или Киевского в их Лаврах, но с уверенностью предполагаю, что такой мирской роскоши, бутафории и пышности там не было. Здесь Габсбурги решили польстить православию, задобрить большую часть своих подданных, из коих очень многие спасались как эмигранты в их владениях от зверства турок. Великое переселение православных сербов имело место, как известно, в XVII и XVIII вв. при Печских патриархах Арсении III Чарноевиче и Арсении IV Шакабенте Габсбурги отдали Фрушскую гору в Среме для устройства на ней «Сербского Афона». Свыше 15 монастырей расположились в живописных равнинах и на склонах этой привлекательной, лесом и виноградниками покрытой горы, вернее, невысокого, длинного (верст на 40) холма. Там цвели мужские монастыри с богатыми угодьями, образцовым хозяйством, прекрасной обстановкой, богатыми библиотеками, в прочно построенных корпусах и сводчатых келиях. В наше время все это сохранилось. Не было только одного… монахов. Это была не пустыня, а пустые здания. В лучшем случае жили в этих трехэтажных монастырях игумен и один-два послушника, «искушенника». Это было жалкое свидетельство о былом богатстве и расцвете духовной культуры.
Центром, вокруг которого эти монастыри процветали, была Патриархия в Карловцах. Там уже не богатство, а просто дворцовая роскошь бросалась в глаза. Патриаршие покои на втором этаже были переобременены роскошными и пышными украшениями. Покои отдельных митрополитов и архиереев, приезжавших на соборы, и трапезная также поражали своим убранством. В столовой стоял очень широкий обеденный стол, накрытый скатертью с тканными гербами. Посуда и хрусталь с гербами патриархов. Лакеи в форме. Тонкие блюда, хорошее местное фрушкогорское вино. После обеда в соседней комнате подавался кофе. Монастырского уклада, конечно, никакого.
Владыка Максимилиан был очень приветлив и радушен; принимал, как хозяин, выросший в этом дворце и, вероятно, даже и не задумывавшийся над этой придворной декорацией. После обеда Федя, с разрешения викария, показал мне весь дворец, начиная с маленькой капеллы и кончая тронными залами и гостиными патриарха. Я помню только, что была голубая, красная и желтая гостиные, и курительная (!) комната, и все в таком духе. Со стен смотрели из золотых рам бывшие патриархи времен Габсбургов в муаровых красных рясах и красных шапочках, как у католических прелатов, и все в орденах.
Я потом, уже архимандритом, часто бывал в этом дворце у патриарха Варнавы, который меня любил и отмечал и даже выдвигал на пост своего викария. Он, в отличие от патриарха Димитрия, не любившего Карловацкого дворца, бывал в Карловцах часто, подолгу живал, и это великолепие, по-видимому, импонировало его имперским замашкам. Но всегда в этих дворцовых, пышных и роскошных покоях я себя чувствовал неуютно. Видно было, что прежде всего эта декорация не к лицу православному архиерею, не гармонирует своим отсутствием духовности с присущими в нашем понятии архиерею аскетизмом и монашеским смиренномудрием. Бывало ли оно всегда в покоях митрополичьих и лаврских, я не знаю, но думаю, что такого, как в Карловцах, псевдо-дворцового стиля в них не было.
Чувствовалось, как государственно мудры были католики-Габсбурги. Они приютили у себя сербских эмигрантов, беженцев от турецкого «зулума», равно как их приютила и Великая Екатерина в России. В Среме, Бачке и Банате эти сербы-колонисты стали своеобразной Сечью для защиты южных областей Империи от турецких орд. Но этим «запорожцам» дали тотчас же соответствующий австро-венгерскому, габсбургскому «К. унд К.» режиму, мундир и регламент. Православие, которое они со своими патриархами Арсениями III и IV принесли с собою, от них не отняли, его не гнали, но и свое католическое население от него охраняли. Себя обезопасили от «схизмы». Как? Гонениями? Отнюдь нет. Это бы только укрепило православие в его исповедничестве, как это имело место всюду под турками. Поэтому ему дали такое положение, при котором все есть в изобилии, даны все права в народном самоуправлении, просвещении, экономике и пр., но духовная независимость благодаря этому постепенно исчезла. Карловацкие архиереи были сановниками Венского режима. Они получали ордена Золотого Руна, Марии Терезии и пр., титуловали их Высокопревосходительствами, Действительными Тайными Советниками и Кавалерами (что, между прочим, писалось даже на антиминсах), проживали они в своих фрушкогорских монастырях и в Патриархии в великолепных покоях и гостиных, ходили в муаровых рясах, «реверендах», ели на гербовой посуде, выезжали в каретах, вызывались в Вену или Пешт для высочайшей аудиенции. При наречении в архиереи, говорят, они подписывали какой-то белый бланк бумаги, словом, становились послушнейшими рабами Габсбургского двора. В сущности, все патриархи Бранковичи и Богдановичи потеряли совершенно свой когда-то в истории авторитет печальников своего народа. Разительным поэтому всегда был контраст между карловацкими патриархами, черновицкими митрополитами и прочими австрийскими православными прелатами, живущими в шелку, довольстве и в политическом, да и в духовном рабстве, с одной стороны, и подневольными, невзрачными с виду архиереями, патриархами и игуменами турецких областей: Греции, Сербии, Болгарии, едва-едва существовавшими в своих полуразрушенных монастырях и митрополиях, ничего, кроме фасоли и кукурузного хлеба, не имевшими, очень часто заканчивавшими свою исповедническую жизнь повешенными на воротах своей митрополии или посаженными на кол на площади своего города, но духовную свободу свою сохранившими!
Возвращаюсь, однако, к повествованию о себе.
Первые три дня Страстной седмицы я служил в белградской церкви как второй диакон, а однажды и как первенствующий при архиепископе Анастасии. Служение преждеосвященной Литургии с архиереем вещь довольно сложная, в дни Страстной особенно усложняющаяся чтением Евангелий, а при таком требовательном архиерее, как архиепископ Анастасий, и совсем трудная. И должен к своему удовлетворению сказать, что ошибок я почти не делал. Протодиакон (о. Иоанн Вайздренко), строгий критик, подметил у меня на первой литургии шесть промахов, причем такого свойства: при каждении не перекинул орарь через левую руку, не сказал перед какой-то паремией «Премудрость» и т. д. А потом я узнал, что владыке Анастасию особенно понравилось мое чтение Евангелия, что он тут же одному лицу заметил и добавил, что вообще меня бы он хотел иметь в своем ближайшем окружении. Вот каким образом и совершилось мое скорое назначение к нему в Иерусалим. Тогда-то я этого не знал, конечно, но все же, помню, особых литургических затруднений я не испытал, и ни устав службы, ни сноровка служить для меня не были камнем преткновения. Помню один совет митрополита Антония насчет каждения, который и мне очень помог, а потом через меня и другим облегчивший это движение.
«Возьми, — сказал мне митрополит, — вот эту книгу под мышку правой руки и валяй, братец». Он мне подал толстейшую «Постную Триодь». Сразу стало ясно, что не надо при каждении махать всей рукой, а только частью от кисти до локтя; плечо должно быть совершенно неподвижно.
Диаконствовал я четыре дня. На Великий Четверг я был рукоположен во пресвитера. Это для меня осталось знамением на всю жизнь, — рукоположение в день установления таинства Евхаристии как бы преднамечало мое священство как преимущественное тайнодействие. Не проповедничество, не душепопечение, не требоисправление и уж не социальная хлопотливость, конечно, были мне указаны Пастыреначальником, а именно литургическая, теургическая евхаристическая служба в священстве. Не могу не признать, что это для меня и оставалось всегда самым важным в священстве, но и очень трудным. Я, вероятно, мог бы и должен был бы больше и чаще служить.
Когда еще студентом я один раз говорил с о. П. Беловидовым о таковой возможности в будущем, я просил его, чтобы в день моей хиротонии пели бы Херувимскую Львовскую, как особенно молитвенно-лирическую. Он мне это обещал. А вышло так, что на моей хиротонии не пели никакой Херувимской и выводили меня из алтаря под звуки и при словах «Вечери Твоея Тайныя днесь…», звуки, которые я всю жизнь не мог слышать спокойно и равнодушно.
Перед посвящением во иерея я пережил нечто вроде того, что было со мной перед постригом. Это была какая-то Голгофа оставленности, уныния и малодушия. Я готов был бежать и даже не идти в церковь, я невероятно испугался бремени священства, маловерничал, озирался вспять. Вечер Великой Среды и утро Великого Четверга я провел очень болезненно и пребывал в страшном мраке и унынии. Даже вспоминать теперь страшно и мучительно.
Служили оба святителя, Антоний и Анастасий. Конечно, в духовном плане совершенно безразлично, какой архиерей рукополагает, ибо действует здесь благодать Св. Духа, а не личные достоинства, — ум, святость или кротость того или иного архиерея. Но все же мне приятно, что восприял я благодать священства от руки «Великого Аввы», и что на моей хиротонии молился и очень мною чтимый святитель Анастасий, великий молитвенник, мудрый архиерей и стойкий борец за свободу Церкви от ига ее поработителей.
Не хочу и здесь описывать отдельные подробности этой минуты, но не могу не вспомнить этого страшного момента, когда на голову легли омофор и руки митрополита, а над ухом почувствовал теплое дыхание его, и знакомый и милый мне голос зашептал:
«Возведи очи сердца твоего к престолу Всевышняго…»
Еще страшней была минута вручения частицы Агнца:
«Приими залог сей и сохрани Его…»
И тут тоже, вспоминая эти слова, чувствую, как я всю свою священническую жизнь небрег ими…
После этого дня на меня напало особое пастырское искушение: боязнь служить. Вместо положенного сорокоуста я почти совсем не служил долгие недели. Я боялся Чаши, боялся своей неподготовленности, своего недостоинства, боялся быть опаленным божественным огнем и т. д. Больших усилий стоило мне победить в себе это наваждение. В Битоле, в так называемой нижней церкви у Митрополии, где почти никого не бывало, я начал привыкать служить. Очень меня тогда подбадривало присутствие в алтаре почти на каждой обедне владыки Иосифа.
Вечером я участвовал в чтении 12-ти Евангелий. При большом соборе священников мне пришлось читать, кажется, 7-е Евангелие, которое я читал на паперти, так как много народу стояло и вне храма.
На другой день, в Великий Пяток, после Выноса Плащаницы, имело место некое искушение. Отец Петр ввиду большого наплыва исповедовавшихся в этот день просил и меня ему помочь. Мне поставили аналой, дали в руки требник и ко мне пошли исповедоваться люди, которых я знал по церкви, а с некоторыми был и близко знаком. Я ничего не подозревал. Настоятель храма велел исповедовать, значит, нечего и рассуждать. Я и поисповедал человек 30-40.
Но уже в Битоле, на Святой неделе получаю письменную головомойку и от о. Николая, меня постригавшего, от о. Амвросия, моего аввы: «Молоко еще на губах не обсохло, мирской хвост еще не обтрепался, а уже туда же лезет, исповедует, старчествует, духовничествует».
Я просил письменно прощения за такое невольное самоволие. Отцы мои покрыли это любовью, и только лет через 4-5 я получил разрешение исповедовать, что считаю совершенно справедливым. Неверно искать совета у только что рукоположенного молодого и неопытного иерея. На Востоке, у греков, существуют специальные духовники «пневматики», поставляемые на духовническое служение особым чином и руковозложением архиерея. Это по преимуществу старые, опытные священники, знающие и жизнь, и Номоканон. И у нас в Требнике существует предупреждение священнику без особой грамоты от архиерея не принимать никого на дух, а самый чин поставления нами не совершается, и разницы между духовником и обычным священником мы не соблюдаем. Духовничество и опасно, и ответственно. Ему надо учиться опытом жизни и духовного делания, которых нет у новорукоположенных иереев.
Вернулся я в свой Бито ль иеромонахом Киприаном, с маленькой бородкой, едва отрастающими волосами и в длинной русской рясе в талию. Только по возвращении с Востока я перестал носить наши рясы-поддевки, а решительно перешел в великолепную греческую широкую рясу. Служил я мало, как я уже писал. Летом уехал в Белград, где меня привлекала хорошая факультетская библиотека, своя белградская церковь и свой дом. Съездил я и в Мильково, но, каюсь, не выдержал там больше двух недель и поспешил обратно к библиотеке. Конечно, это не могло не огорчать о. Амвросия, но я думаю, что он меня понимал, и он не насиловал моей воли. Вообще-то с монахами у меня сложились прекрасные отношения. Были там два валаамца, пострадавшие за старый стиль и убежавшие от преследований в Сербию, где им патриарх Варнава (тогда еще Скоплянский митрополит) дал один монастырь, Лешак, из которого, впрочем, они быстро разбежались по разным монастырям. По-видимому, отрыв от своего улья не благоприятствует постоянству в духовной жизни. Были и другие монахи, русские и сербы, но все помоложе, из своих же послушников. Старые же русские монахи, так сказать, кадровые, — а их было немало, — уже отравились жизнью на приходах, куда их сербские архиереи посылали за недостатком своего священства, погибшего на войне; они предпочитали спокойный уют приходского священника, особенно в «преко», т.е. в бывших австрийских областях, где жилось богато, сытно и по-барски.
С монахами, повторяю, отношения сложились хорошие, но самая жизнь, постоянная работа по хозяйству, поливание огорода, его копание, полка и т. п. меня совершенно удручали. Хотелось обогащать свое знание, пополнять пробелы, которые не мог заполнить факультет. В семинарии ждали уроки, хотелось побольше и поживее все дать своим «бурсакам»; времени было мало; семинарская библиотека была незначительна, а на факультете было большое богатство. А тут тратилось время на хозяйственные послушания. Вероятно, с точки зрения чистой аскетики это очень хорошо и спасительно, но я смотрел на свое монашество не только с этой стороны, но и как на творческие возможности дать максимум усилий в богословской работе при независимости от семьи, от общественных и других обязанностей.
Один раз я даже невольно подслушал разговор нескольких монахов, работавших под окном той келий, куда мне удавалось уклониться иногда для чтения взятых с собою книг. Вышло это как-то непроизвольно. Монахи, не зная, конечно, что я в доме, коснулись в своих разговорах и меня, между прочим. Шла у них такая беззлобная сплетня-критика своих же собратий, очень миролюбивая и благожелательная.
«Да вот, о. Купреян, хороший человек, спаси его Господи, душевный человек». «Душе-евный, что и говорить, да и не гордый». «Да, но вот только педагогицкой деятельностью займается. Все книжки хочет читать. А так ничего, хорошо».
Нравилось и то, что я служу по-монашески. Конечно, Мильково не был похож на Солемм или Сольшуар, или какое-нибудь Мариалах. Такова ли историческая судьба православия, не иметь своего ученого ордена и стилизоваться ради спасения и смирения под обскурантизм, не знаю. Об этом я немало говорил публично и писал, и это, особенно при близком знакомстве с католическими учеными монастырями, где и Богу хорошо молятся, и духовную жизнь ведут интенсивно, но и книги пишут, тексты сравнивают, открытия на пользу Церкви делают, мне стало ясно. Католики не отняли от монастырей право учиться и учить, и продолжают и теперь, и славно продолжают, линию своих средневековых и позднейших монастырей – рассадников просвещения. У нас как-то повелось, что монаху-академику не дают заниматься наукой. Его гоняют с места на место, из одной семинарии в другую, на место инспектора и ректора, а потом с одной епископской кафедры на другую. И часто из хороших, образованных монахов, с задатками настоящих ученых, делают плохих епархиальных архиереев. Впрочем, не место здесь распространяться на эту давно уже заезженную тему. Как бы то ни было, я из Милькова уехал скоро, да и из Белграда поспешил в Битоль. Помнится, правда, что съездил на несколько дней на приход к о. Николаю, куда-то в Славонию.
Начался третий мой учебный год в семинарии, я освоился уже со многим, и в работе по инспекции, как помощник инспектора, и в преподавании Апологетики, Литургики и Греческого, и вдруг надо мною около Рождества собралась совершенно неожиданная туча искушения.
В декабре назначили к нам одного нового иеромонаха, русского, кончившего несколько позже меня богословский факультет. На расспросы о том, что нового в Белграде, в частности, что говорит митрополит, он мне ответил: «Да в сущности, самая большая новость – Вы».
Видя мое искреннее изумление, он добавил:
«Да разве Вы ничего не знаете о Вашем предстоящем назначении?»
«Назначении? Куда?»
«Как куда? Да Вас прочат в Иерусалим на место подавшего в отставку исполняющего должность Начальника Миссии архимандрита Мелетия».
Меня буквально громом ударило. Я просил мне повторить сказанное, недоумевал, остался совершенно потерянным. Я ушел в свою комнату, но скоро даже и перестал думать об этом невероятном известии. С одной стороны, я так любил свое дело, так себя считал с ним связанным, а с другой, пост Начальника Миссии, один из виднейших постов в русской иерархии, совершенно исключительный по положению и важности, пост, на который назначали опытных архимандритов, вдруг ставится в связь со мной, только что постриженным иноком, только что рукоположенным 28-летним иеромонахом! Управлять Миссией, о которой я мало что себе представлял, кроме как то, что на ней тяготеет огромный долг, что там непрестающие интриги русских и греков, какое-то там Палестинское общество, иностранцы, англичане и т.д. И на это все – я, вчерашний Кернушка. Невероятно.
Я никому ничего не сказал из сослуживцев, счел, что новый коллега просто не понял что-то или ослышался. Словом, я даже перестал и думать об этом. Скажу откровенно, мне даже и не хотелось в Палестину, столь это было связано с труднейшей проблемой нашей Миссии, о чем я слышал всегда от митрополита и от других людей. Я об этом слухе забыл. Но обо мне не забыли.
Скоро пришло письмо от митрополита Антония. Жалею, если наша переписка пропала в годы войн и катастроф; пред собой его не имею, но содержание его помню прекрасно. «Друг», — начиналось оно, и потом строчки мелкого малоразборчивого письма валились вправо, так что от рукописи владыки всегда создавалось впечатление, что он держит лист бумаги не прямо, а вкось. «Друг, что бы Ты сказал, если бы мы Вас (характерно смешение множественного и единственного чисел) назначили в Иерусалим?..» Дальше следовало, что архиепископ Анастасий, получивший отставку старшего члена Миссии, уже несколько лет исполнявшего обязанности Начальника после ухода архимандрита Иеронима (Чернова), выдвигает перед Синодом мою кандидатуру. Соображения в мою пользу: знает языки, воспитанный, лицеист, может импонировать иностранцам и пр. А молодость – это ничего, так как в Миссии живет сам Анастасий, который все дело хорошо знает, ведет его уже давно и будет мною руководить и меня в дело постепенно вводить.
Итак, что я думаю? Не скрывалось в письме, что члены Синода, архиереи немало смущены моей молодостью. Митрополит в письме просил ему дать скорый, но совершенно откровенный ответ.
Нечего и говорить, что этот ответ мною был дан в отрицательной форме. Как же иначе? «Ну, — подумал я, — отделался от опасности. Можно спокойно учить своих “бурсаков”». Но не тут-то было. Старшие решали по-иному.
Через некое время снова письмо: Синод отстранил мою кандидатуру, как слишком молодого и по годам, и по монашеству. Но архиепископ Анастасий отличался всегда настойчивостью и упорством. Он подтвердил свое желание видеть начальником именно меня. И опять те же соображения. Митрополитснова меня спрашивал, причем уже не предоставлял мне свободу выбора, а вроде как бы убеждал послушаться «Мудрейшего», как называли архиереи в своей среде архиепископа Анастасия.
Я снова отказался, умоляя меня пощадить.
Прошло еще некоторое время и, кажется, в феврале или марте я получаю письмо. Ясно помню, что это было воскресение, и я только что возвратился из церкви с учениками и в профессорской столовой пил чай, стараясь согреться после долгой утрени и обедни в холодной соборной церкви.
В письме стояло черным по белому: «вчерашнее заседание Синода ознаменовалось назначением Вас на пост Начальника Русской Миссии в Иерусалиме с возведением Тебя в сан архимандрита. Мы все решили, что таков нам подобаше Начальник Миссии». Вот почти буквальные слова митрополита. Ручаюсь за их почти дословную точность.
Я обомлел. Кинулся в русскую церковь и чуть не разревелся в алтаре. Мой добрый знакомый священник, преподаватель нашей же семинарии, старался меня всячески утешить, но ясно было, что пути отступления отрезаны. Тем не менее, я ответил митрополиту просьбой меня все же не назначать, что я не способен, что я молод и пр. В ответ: ты монах, где же послушание? Не мне, старику митрополиту, Тебя, мальчишку, упрашивать.
Ясно: делать нечего. Я пал духом. И странно, маленькая психологическая подробность: особенно меня удручало, что на меня возложат митру. Я и эстетически этого головного убора не любил, и канонически считал его несоответствующим священническому сану. Жизнь на Востоке подтверждала мой вкус и взгляд: митра там есть прерогатива одних архиереев.
Еще одна подробность: вышла неприятность с епископом Иосифом. Он узнал от самого митрополита Антония, что меня, сербского клирика, преподавателя сербской семинарии, подчиненного и сербскому архиерею, и сербскому Министерству, вдруг безо всякого сношения и предупреждения русский Синод, пользующийся гостеприимством сербов, но весьма расширительно толкующий это гостеприимство, взял да и назначил в свою церковную юрисдикцию. Оставим в стороне, насколько бесспорна каноничность этой юрисдикции. Но таков Карловацкий стиль, таков сам митрополит Антоний. Ему подчинено все Зарубежье. Он, вероятно, и не думал, при всей своей каноничности, что он действует, превышая власть свою и неглижируя церковными прерогативами другой власти.
Мне пришлось выслушать несколько горьких слов от епископа Иосифа, с которым у меня к тому времени наладились прекрасные отношения, который меня полюбил и даже наградил меня в день Архангела Михаила правом ношения красного пояса, чисто сербской награды, перешедшей к ним, вероятно, от католиков. Пояс этот носится на подряснике. Вследствие моей худобы коллеги острили, что у меня нет формального основания для ношения этого отличия. На обширных «благоутробиях» дородных протоиереев это отличие выглядит весьма величественно.
Епископ Иосиф был огорчен именно этой беззастенчивостью наших русских архиереев. Они не входили в обсуждение, оправданы ли «вселенские» претензии Карловацкого Синода или нет. Они говаривали неоднократно: «Антоний столько для нас в свое время сделал, что мы ему многое прощаем из его широких жестов». Но не могло, конечно, их не оскорблять такое хозяйничание с их клириками. Я подчеркивал всегда, что я начал свое церковное служение в Сербской Поместной Церкви. Я сербский клирик. Пострижение и посвящение меня рукой русских архиереев было изволено сербскими моими духовными начальниками. Без благословения битольского архиерея Иосифа митрополит Антоний не мог бы меня ни постричь, ни рукоположить. Он действовал по поручению сербской церковной власти. А вот в моем назначении в Иерусалим он совершенно забыл, что я по службе – сербский клирик. Митрополит Антоний так был убежден в своем правомочии во всей вселенной, что ему, вероятно, и в голову не приходило, что он допускает известную некорректность по отношению к Сербской Церкви.
Были неприятные разговоры и с чиновниками Министерства. Но надо сказать, что и епископ Иосиф, и Начальник Министерства вошли легко в мое положение и меня не задерживали.
Гораздо хуже ударил гром из ясного неба, но с другой стороны. Я написал моему авве о. Амвросию и держал его в курсе дела во время моей переписки с митрополитом Антонием. Он велел слушаться во всем Авву Антония. «Не ты этого, Купреянушка, хочешь и ищешь. Не тебе и решать. Раз святители так о тебе думают, смиряйся и слушайся». Думаю, что он был прав по существу монашеских принципов. Но не так посмотрел о. Николай.
От него вдруг получил из Лондона негодующее письмо: «Это только у нас возможно. Молокососа назначают на такой пост. Да еще не спросясь его духовных руководителей. Да еще назначают при двух бывших Начальниках Миссии, оставленных там же в Иерусалиме, которые будут его критиковать и ему мешать и т. д. и т. д.».
Я несколько недоуменно ответил вопросом, кого же мне слушаться: того ли о. Амвросия, которому он же, о. Николай, меня поручил, и который за меня и ответственен, или его, меня постригавшего, но за меня не ответственного? И как же быть с волей митрополита? В ответ я получил отказ от всякого духовного общения, гневное письмо и резкие слова. Таков был по существу очень добрый о. Николай, любивший вспылить из-за мелочей, или, по выражению митрополита Антония, «жечь солому». Митрополит сам ответил о. Николаю очень решительным письмом, в котором он его поставил на место. Со временем все это ликвидировалось, и о. Николай все это забыл.
Митрополит Антоний высказывал, между прочим, по поводу этого недоразумения с о. Николаем очень здравые мысли. Отец Николай предъявлял какие-то особые права старчества, духовного руководства и пр. ко мне и был очень возмущен, что его не спросили в таком важном деле. Владыка умело и умно его смирил, так сказать, «поставил на место». Он, подметив в о. Николае эту, свойственную многим священникам, черту душепопечительства, старчества, руководства и т. д., остроумно заметил ему, что он в наших условиях никаким старчеством по отношению ко мне не может руководствоваться.
«Живешь ты, братец, в Лондоне на расстоянии нескольких тысяч верст от о. Киприана и никаким руководителем его быть не можешь. Принимаешь ты его ежедневное откровение помыслов? Ну, так и нечего разыгрывать сцены из жития египетских отцов-пустынников. Так-то вот».
В этом я увидел большую здравость суждений покойного митрополита. Он не задевал о. Николая по вопросу о том, что я ему и не подчинен духовно, так как это подчинение им же, о. Николаем, передано о. Амвросию, а просто-напросто указал ему на несерьезность применения к моему случаю методов и правил из пустыннической практики.
В июне я сдал дела в семинарии и приехал в Белград. Съездил к митрополиту Антонию в Карловцы. Он назначил мне готовиться к возведению в архимандриты на воскресенье 25 июня по старому стилю.
«Митра-то у тебя готова?»
«Никак нет, владыко».
«Как же так? Ну, а крест архимандричий?»
«Тоже нет».
«А мантию?»
«И мантии не имею».
«Э-эх ты, братец. Ну, какой же ты архимандрит?»
«По-видимому, маргариновый, владыко».
«Да, да, да, мой милый. Впрочем, это не твоя вина. В России все это я сам, бывало, моим ставленникам дарил. Ну, как-нибудь устроимся».
В назначенный день, будучи в начале литургии самым молодым из сослужащих иереев, я на малом входе был возведен в архимандриты. Я услышал:
«Святый Дух через нашу верность возводит тя в архимандриты монастыря Св. Живоначальной Троицы во Св. Граде Иерусалиме. Аксиос».
Я же чувствовал себя совершенно «анаксиос». Очень было неловко, когда на меня надели палицу, митру, крест (очень неплохо выточенный одним моим бывшим учеником из дерева, под стиль наших крестов с украшениями). Пришлось стать на первое место, выше о. Петра Беловидова.
После литургии на меня возложили мантию, и митрополит сказал мне удивительное слово при вручении жезла. Оно как бы предначертывало весь мой путь на Востоке. Митрополит Антоний в библейских образах призывал меня к служению вселенскому, к тому, что православие не ограничивается одной Россией. Тогда это было для меня, еще немало зараженного национализмом, очень полезно.
При этом имело место курьезное происшествие. Владыка, опираясь на свой жезл, говорит мне слово с амвона. Я стою перед ним внизу. Мальчик держит за митрополитом второй посох для меня. Заканчивая свое поучение, митрополит обратился ко мне:
«Прими сей посох и паси свою паству с любовью и состраданием, с верностью и твердостью…»
Я в смущении протягиваю руку к жезлу, на который опирается митрополит.
«Нет, нет, нет, мой милый, этот тебе еще рано. Это мой посох, посох митрополита Киевского и Галицкого. Может быть, когда-нибудь и его ты будешь держать, но пока еще рановато».
Я почувствовал, что краска залила мое лицо. Я готов был провалиться сквозь землю. Но владыка, никогда ничем не смущавшийся, продолжает свое слово дальше или, точнее, заканчивает его словами:
«А вы, благочестивые христиане, примите благословение новопоставленного архимандрита и в его деснице облобызайте святой Град Иерусалим».
Начались мои мучительные ожидания визы в Палестину. Были пущены в ход все связи, и из Белграда, и из Иерусалима; от митрополита Антония и от архиепископа Анастасия писались письма и петиции в Английское Министерство Иностранных Дел, в Министерство Колоний, Архиепископу Кентерберийскому, Принцессе Виктории и кому-то еще. Я ждал до начала октября. Виза была мне дана как «иммигранту в Палестину по категории А V», что дается специально духовным лицам.
Эти месяцы ожиданий были поистине болезненны для меня. Виза не приходила, а время проходило без определенных занятий. От школьной своей работы я был оторван; в конце августа уже начиналась работа в семинарии, и такая именно работа, которую я любил: прием новых «бурсаков», разные усовершенствования в интернате, устройство классов, трапезной и спален на зиму и т. д. В Белграде мне не хотелось ни за что определенное приниматься; от книжной работы я себя чувствовал оторванным. Да мне даже казалось, что книжная работа для меня навсегда кончена, так как я осужден на административную работу по начальствованию над Миссией. Об этой последней я знал очень мало, почти ничего. Ознакомиться с ее историей было невозможно, так как книг, которых хотелось иметь или прочитать, не было. Я не мог найти известную мне тогда только понаслышке знаменитую «Книгу бытия моего» епископа Порфирия Успенского. Об о. Антонине, который мне потом в Иерусалиме так много дал всей своей деятельностью и памятниками о ней, я имел более чем туманное представление. Во всяком случае, я не знал, что через пять лет напишу о нем книгу.
По совести говоря, когда вспоминаю теперь эти месяцы ожидания, я даже и не хотел ехать в Палестину. Назначение меня туда мне казалось покушением на мою любимую школьную работу. А Миссия, ее долги, призрак административной работы, запутанность отношений с греками, с Палестинским Обществом представлялись мне очень мрачно. Я предполагал, и в этом я не ошибся, что самой Палестины, библейского Иерусалима, тишины галилейских пейзажей и прочее, мне не видать. Я знал, что меня посылают на этот очень видный, когда-то завидный пост в русской иерархии, а теперь весьма тяжелое послушание, чтобы выплачивать какие-то долги, сделанные еще до войны 1914 г. покойным Начальником архимандритом Леонидом, чтобы налаживать натянутые отношения с Палестинским обществом, распутывать какие-то затруднения с греками, т. е. с патриархией, чтобы лавировать среди каких-то монахинь и оставшихся после войны паломниц, так называемых «матушек» и т. д. и т. д. И все это должен делать я, 29-летний молодой человек, едва посвященный в священный сан, без опыта Порфирия, Антонина и Леонида, наших довоенных начальников и, что самое главное, без того ореола Российской Империи и ее поддержки. Словом, посылали меня бежать со связанными ногами и с завязанными глазами. Настроение мое было невеселое. Епископ Гавриил прямо пророчествовал мне, что я еду на Голгофу, причем не на ту настоящую и Божественную Голгофу, а на Голгофу административную. Меня, кроме того, пугало присутствие высокоторжественного, парчево-недоступного архиепископа Анастасия, который в сущности меня туда и вызывал. Я был в мрачном расположении.
В эти месяцы ожидания я частенько обращался к митрополиту за разъяснениями о моей будущей деятельности в Святой Земле. Мне было дорого как личное мнение самого владыки, так и его впечатление человека, четыре года перед тем бывшего в Иерусалиме и знавшего положение дел в Миссии.
Но к моему большому разочарованию я не получил от него ответа на интересовавшие меня вопросы. Финансовое положение Миссии он знал плохо. Что касается вопроса о возможности продажи некоторых наших владений, не имевших, разумеется, исторического или хозяйственного значения, он стоял на точке зрения готовности продать то, что было нам лишним. В противоположность ему архиепископ Анастасий настаивал, как он сам говорил, «на охранении русского достояния». В отношении греческой Патриархии митрополит не разделял русского шовинистического и задирчивого поведения наших последних до войны начальников Миссии. Митрополит был филэллин; это мне всегда импонировало, и в моем преклонении пред всем греческим, в моей любви к местному греческому элементу, в моем преклонении перед Патриархией я и тогда, и после моего отъезда имел в его лице горячего сторонника. Что же касается Палестинского Общества, владыка переоценивал его значение и не видел его к нам, к Миссии враждебного отношения. И странно: в этом весь Антоний. Так как во главе Палестинского Общества стоял князь А. А. Ширинский-Шихматов, один из монархических руководящих деятелей, а в Иерусалиме сидели чиновники Палестинского Общества, тоже в большинстве правых убеждений, то митрополит не хотел и слышать ничего плохого о них. И даже, когда я уже вернулся из Палестины и многими фактами доказывал враждебность «палестинцев» по отношению к нам, к Миссии, владыка с недоверием относился к моим рассказам. Он не мог видеть в них врагов, коль скоро они монархисты.
Когда я уезжал из Белграда, то в день отъезда был после литургии (это было в воскресенье) у митрополита. Там присутствовал епископ Гавриил (Чепур), и я помню, как оба святителя меня напутствовали, благословляли и благожелали. Митрополит так и простился со мною, взяв с меня обещание, что я буду обо всем писать, и всегда он придет мне на помощь, буде таковая понадобится.
Я его, помнится, спрашивал, как мне себя вести с разными лицами там в Иерусалиме. Владыка очень настаивал на развитии и укреплении моих филэллинских чувств, рекомендовал войти в возможно более близкие отношения с Патриархией, в частности с архимандритом Калистом (Меллиара), его учеником по Московской Духовной академии. Он его очень хвалил и уважал, несмотря на заведомую его близость к архиепископу Хризостому Афинскому и патриарху Александрийскому Мелетию (Метаксакису). В отношении архиепископа Анастасия митрополит предвидел возможные трения и затруднения, зная всю непреклонность «Мудрейшего» в известных вопросах. Конечно, ни митрополит, ни я, ни сам «Мудрейший» не могли предвидеть, насколько мне будет трудно в Палестине, и сколь скоро я буду проситься в отставку с этого поста. Знаю, что я моим уходом поставил и митрополита, и всех вообще наших архиереев в весьма нелегкое положение. Но, сколь я об этом теперь часто ни думаю, сколь ни каюсь в недостатке послушания и выносливости, я знаю, что иначе быть не могло. Митрополит со своей стороны тоже не думал, что архиепископ Анастасий сразу же поставит меня в такое положение, что мое назначение в Миссию заранее будет предопределено, как весьма краткосрочное. Я лишний раз оценил такт и прогнозы митрополита, человека вообще не очень-то прозорливого, а еще более часто нетактичного. Но об этом не стоит вспоминать.