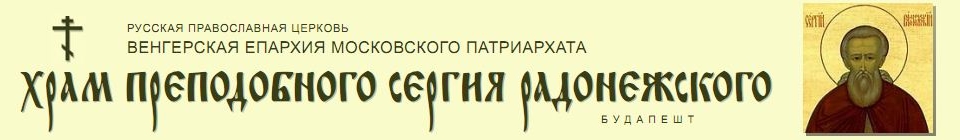ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА
ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ
РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
ПЛАН ПРОЕЗДА
О ПРИХОДЕ
СЛОВО НАСТОЯТЕЛЯ
СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ
ЖИЗНЬ В ЦЕРКВИ
ХРИСТИАНСТВО
В ВЕНГРИИ
ПРАВОЛСЛАВНАЯ
МИССИЯ В МИРЕ
НАШЕ ПРОШЛОЕ
И НАСТОЯЩЕЕ
МУЧЕНИКИ
И ИСПОВЕДНИКИ
ХРИСТИАНСКИЕ ПРАВЕДНИКИ
ЦЕРКОВЬ
И ГОСУДАРСТВО
СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
ВОСПОМИНАНИЯ
И ДНЕВНИКИ
ВСЕХ ИХ СОЗДАЛ БОГ
СОВЕТЫ ВРАЧА
БИБЛИОТЕКА
СТРАНИЦА РЕГЕНТА
ФОТОГАЛЕРЕИ
ДУХОВЕНСТВО ХРАМА
НАШИ РЕКВИЗИТЫ
КОНТАКТЫ
ССЫЛКИ
Конечно, не в этом известность митрополита Антония. Прежде всего, это был исключительно церковный человек, т. е. у него была исключительно церковная аксиология и критериология. Он все расценивал с точки зрения примата Церкви. Церкви, а не государства; Церкви, а не прогресса; Церкви, а не светских предрассудков, и т. д. И тут в этой связи, прежде всего, передо мной всплывает образ Антония как архиерея, как святителя, как священнослужителя. Не могу не вспомнить, как служил митрополит Антоний.
Прежде всего, тут имел значение его облик. Невозмутимое спокойствие. Боярская красивая внешность. Некоторая грузность не портила общего впечатления. Совершенная уверенность в церковном уставе и чинопоследовании. Прекрасный ритм и бесстрастность в служении. И в чтении, и в литургийных возгласах он не вкладывал ничего своего личного. Он так и считал, что личная интонация может только испортить впечатление, должен говорить сам за себя смысл читаемого; а говорить он может только тогда, когда ему не придают своего истолкования. Читал он разумно, внятно, бесстрастно. Но в этом не было никакой монотонности. Отсутствие аффектации делало его службу чрезвычайно осмысленной, прозрачной, строгой и иконописно классической. Это был классик богослужения. Как часто вспоминаешь его и жалеешь о его уходе при виде современных молодых и без традиции батюшек из интеллигентов, у которых ни одно слово и ни один возглас не сказаны просто, а все с какими-то вычурностями, деланными выясениями и подчеркиваниями, придыханиями, завываниями, замедлениями, ускорениями и т. п. Как он, бывало, не выносил этих стилизаций под о. Иоанна Кронштадского или под какого-нибудь кликушествующего декадента. Митрополит был сама трезвость во всех отношениях – откуда у него была врожденная боязнь и неприятие мистики. В мистике ему чудилось хлыстовство, кликушество, наигранность. Он совершенно трезво и прозрачно переживал содержание богослужения и давал его переживать и другим не по-своему, не по-антониевски или как-либо по-другому, не навязывал своего понимания или своих переживаний, а позволял через ткань слов проникать во внутренний смысл выражений и текстов.
Поэтому он терпеть не мог болезненных прижиманий пальцев ко лбу для крестного знамения, а крестился прекрасным размашистым, истовым широким крестом, отнюдь его не «ломая в поклоне». Не выносил, когда кто-либо из батюшек начинал молиться с закрытыми глазами или с закидыванием головы и т. п. «Ну, пошел чудить, кривляться». Терпеть не мог коленопреклонений, правильно замечая, что коленопреклонение появилось к нам с Запада, от католиков, а стоял за метания, т. е. земные поклоны, сохранившиеся на всем Востоке и у старообрядцев. Вообще был поклонником старообрядчества.
Даже природный недостаток – полное отсутствие музыкального слуха, не делало его служения некрасивым. У него было невероятное при его немузыкальности чувство ритма, и оно восполняло недостаток слуха. Это чувство ритма делало его службу исключительно величественной и благолепной.
С годами его бесстрастность в служении умягчилась даром слез, который являлся у него часто, особливо при произнесении установительных слов Евхаристии, при чтении Евангелия, иногда во время проповеди. И тогда его лицо становилось еще более иконописным. Вообще он напоминал ветхозаветного пророка.
Если ему рассказывали о каком-нибудь кликушествующем священнике, особенно из молодых монахов, вокруг которых воздыхали разные почитательницы, можно было быть готовым вот-вот услышать какое-нибудь словцо по его адресу. Не дай Бог сказать вдобавок, что этот батюшка молитвенник, или мистик, или прозорливец. Так и слышу: «А, уже кронштадтить начал……» Или:
«А может быть, этот батюшка уже мертвых воскрешает?» Или: «А что, он еще не молится на воздусе?» И добавлял иногда: «Больше всего боюсь бешеной собаки и святого человека» (понятно, что он подразумевал под словом «святой» в данном случае).
Велико, да, велико было воспитательное значение митрополита в школе богослужения. Он был стилен до предела, неповторим и незабываем.
Понятно поэтому, как его должны были нервировать, а под старость раздражать священники, не умеющие научиться служить, правильно читать по-славянски, не знающие устав. Тут, при всей его непосредственности и несдержанности, во время службы можно было услышать и весьма нелестную оценку умственных способностей того или иного диакона или священника. Раз как-то один диакон, читая Апостола, прочитал не только напечатанное черным, но прочел и слова киноварью, относящиеся к так называемой преступке текста: «преступи пятку». Это еще полбеды, но и ударение было искажено и вместо: «пятку», было сказано «пЯтку». Понятно, что это не имеет никакого отношения к тексту апостольского послания и к тому же звучит смехотворно.
Другой раз, в неделю расслабленного чтец на клиросе, молодой студент богослов, не сообразив, что запев на каноне должен быть «слава Тебе, Боже наш, слава Тебе», вдруг громко возгласил: «святый расслабленный, моли Бога о нас», за что удостоился громогласного «дурак» от стоявшего тут же митрополита.
Я особенно любил слушать его чтение шестопсалмия или Канона Андрея Критского. Это было почти целиком чтение наизусть и с исключительным монастырским, бесстрастным, но отнюдь не бессодержательным выражением. Церковный устав он знал в совершенстве, уступая, правда, непревзойденному литургисту епископу Гавриилу Чепуру. Митрополит и сам признавался, что лучше епископа Гавриила устав никто не знает, даже старообрядческие уставщики.
Владыка был классик свяшеннослужения. Перед собою в прошлом он имел идеальные образцы служения, выдержки, выправки, классического пения, безупречного чтения. Он видел служащими и прислуживал сам митрополитам Исидору и Иоанникию, видел, знал, прислуживал и сослужил при митрополите Антонии Вадковском, митрополите Флавиане, лаврских и кафедральных архидиаконах и протопресвитерах, при вышколенных прислужниках и певчих наших лавр и монастырей, академий и семинарий. Знать службу и устав и заслужить в этом похвалу митрополита было дело нешуточное. Если он о ком-либо говорил, что он хорошо служит, что он молодец, то это было дипломом высшего порядка. Даже немузыкальность митрополита не мешала его богослужебному великолепию. При хорошем регенте всегда можно было скрыть его непопадание в тон или неумение начать запевание какого-нибудь входного стиха или величания. А немузыкален он был до последнего предела. Он абсолютно не различал тонов и мелодий. Но странно: обладал прекрасным музыкальным вкусом и памятью. Преклонялся перед знаменным и греческим пением, любил киевские лаврские напевы и очень стоял за них.
А от концертов Бортнянского или Веделевских «Покаяния отверзи ми двери» митрополит приходил в дурное настроение и не стеснялся во всеуслышание отпустить какое-нибудь резкое словцо об этом стиле пения.
Помню однажды всенощную в Белградском храме. Это было перед Великим Постом. Настало время петь «Покаяния отверзи». Регент, не зная, или не сообразив, что митрополит Антоний не оценит его доброго намерения, раздал ноты и задал тон на Веделевское «Покаяние», как известно очень вычурное, концертное и совсем нецерковное. На левом клиросе среди студентов богословов и любителей уставного пения стоит на орлеце у своего места в белом клобуке с панагией – подарком митрополита Сергия – и докторским крестом великолепный боярин-митрополит. В глазах добрые огоньки. В бороде улыбка.
«Покаяния отверзи…… отверзи…… отверзи-и-и-и ми двери, Жизнодавче. Утренюет бо ду-ух мой, утренюет бо ду-у-х мой, дух мой ко храму, ко храму, ко храму святому Твоему…» и т. д. Стараются басы, сопрано, теноры, альты, все это друг друга очень хитроумно перебивает, оркестровочно-гармонически замечательно сочетается, но молитвенного настроения, конечно, не дает.
При первых же звуках этого концерта с левого клироса слышно мычание митрополита в бороду (знак недовольства), а потом цоканье языком (предельное негодование).
«М-м-м-м-м. Цэ-э-э-э. Эротическое пение. Гадость».
А как он умилялся лаврским «В молитвах неусыпающую Богородицу». Заставлял ее иногда и дома за столом спеть хороших, голосистых студентов, слушал, умилялся и… тихо плакал, вспоминая Киев, Лавру и все былое великолепие. Или просил спеть какое-нибудь греческое или знаменное песнопение. До упада хохотал, когда я, съездив на Восток, изображал ему греческое пение архиерейских титулов со всеми завываниями, носовыми трелями, руладами, замираниями и проч. До слез смеялся.
Выговаривал с простотой и прекрасной дикцией. Того же требовал и от чтецов и диаконов. Очень любил жившего в Сербии (в Земуне) своего бывшего харьковского протодиакона, знаменитого царя-баса о. В. Вербицкого, одного из лучших октавистов России. Терпеть не мог, когда кто-нибудь из молодых диаконов «угощал» его Чесноковской ектенией «Исполним молитву нашу», написанной нотно и очень вычурно.
Очень любил служить по-гречески; всегда эту традицию поддерживал в России в Академии на день Иоанна Богослова, или Духов день, или на Трех Святителей. Радовался тому, что эту традицию мы, богословы белградские, проводили и на чужбине, и сам у нас служил в этот день. Классиком был он и в прямом смысле этого слова: идеально знал греческий и латынь, разумеется, и славянский, и любил огорошить каким-нибудь вопросом по части грамматики или синтаксиса греческого, славянского или даже и еврейского. Любил поддеть молодежь на ударениях или окончаниях.
«Горе имеим сердца». – Чудная улыбка по всей бороде и коварные огоньки в глазах. – А вы, батюшка, конечно, напишете «имеем». Не правда ли?»
Чайный стол насторожился. Батюшка, наивный третьекурсник, соглашается.
«И ничего подобного. Вовсе не «имеем», а «имеим». Потому что это повелительное наклонение».
Или «Тебе Бога хвалим». Вы, конечно, Миша, (иногда употреблялось «Вы» вместо «ты») пишете через ять [после «т»] «Тебе». -Миша не подозревает ловушки и тоже соглашается. – И вовсе не «Тебе» дательный падеж, а «Тебе» винительный».
Как-то раз мне попало за неправильно поставленное дополнительное ударение в случае двусложной энклитики в греческом языке.
На всякой архиерейской литургии он архиерейскую молитву «Призри с небесе, Боже, и виждь…» говорил на трех языках. Сначала по-славянски: «Призри с небесе, Боже, и виждь, и посети виноград сей, и утверди и, егоже насади десница Твоя». Потом греческое: «Κυριε, Κυριε, επιβλεψον εξ ουρανου και ειδε και επισκεψον την αμπελον ταυτην και καταρτισοω αυτην ην εφυτευσε η δεξια σου».
И, наконец, латинское: «Domine, Domine, respice de caelo et visita risita vineam istam et perficeeam, quamplantavit dextera tua». Это звучало всегда очень торжественно и вселенски правдиво.
Когда митрополит съездил на интронизацию румынского патриарха Мирона, то, вернувшись оттуда, он стал говорить по-румынски: «Доамне, Доамне……» Но это не имело той замечательной звучности и медности латинской фразы. Особенно неблаголепно было окончание этой молитвы, где слова «десница Твоя» по-румынски звучали «дряпта Та».
Не могу не вспомнить одного анекдота с владыкой в Палестине по поводу все той же молитвы. В 1924 г. митрополит ездил в Иерусалим по делам нашей Миссии. Он побывал и в Дамаске у своего друга патриарха Антиохийского Григория IV. После своего возвращения из Дамаска в Иерусалим митрополит оставался там еще некоторое время. Надо сказать, что с первых же дней пребывания в Иерусалиме, еще до поездки в Дамаск, митрополит заставил какого-то «знатока» арабского языка из наших же соотечественников написать ему эту молитву по-арабски, выучил ее и произносил ее на каждой литургии после греческого и славянского ее варианта.
И вот по возвращении митрополита из Дамаска, патриарх Григорий послал ему с ответным визитом старого сирийского митрополита (кажется, Захарию). Наш владыка предложил митрополиту арабу сослужить в ближайшее воскресение в нашей миссийской церкви. Араб поблагодарил, но не служил. Он остался в алтаре и молился во время служения нашего владыки. Дело дошло до малого входа и потом до Трисвятого, во время которого, как известно, архиерей и произносит эту молитву с крестом и дикирием. Антоний вышел в положенное время из алтаря и начал по-гречески: «Кирие, Кирие эпивлепсон екс урану…» и т. д. Потом произнес по-славянски: «Господи, Господи, призри с небесе…» и, наконец, начал по-арабски выученный текст. Вдруг неописуемое изумление и даже ужас выразился на лице митрополита Захарии:
«Зацем, зацем он так говорит? Зацем он нехоросо говорит? Зацем так нехоросо?»
Оказалось, что наш митрополит Антоний «ничтоже сумняся» вместо «Призри с небесе» говорил «Христос воскресе». Удивительнее всего то, что два месяца митрополит каждое воскресение произносил эти слова, и ни наш драгоман, милейший Г. Н. Халеби, ни кто-либо из братии не поинтересовался тем, что же говорит митрополит, были совершенно к этому равнодушны. А тут присутствовали и интеллигентные русские люди, служащие нашего консульства и Палестинского общества и другие, которые оставались совершенно безучастны к тому, что и как совершается в церкви.
Недаром Антоний, острословя на счет бесцерковной русской интеллигенции, говаривал, что русская интеллигенция не знает, в чем разница между кадилом и митрополитом.
Я говорил, что митрополит Антоний был классиком в смысле стиля богослужения, пения и устава. Он не выносил между прочим молебнов после литургии, считая, литургия венчает все последование богослужебного, а молебны суть произведения дурного литургического вкуса, «поповской бездарности». Терпеть не мог акафистов в церкви, кроме как положенного в пятницу 5-й недели Великого поста акафиста Божией Матери, который он и читал всегда в своем келейном правиле. Он совершенно правильно замечал, что большинство русских акафистов суть образчики декаденцни нашего литургического вкуса. В этом он сходился с митрополитом Филаретом, которого в остальном недолюбливал. Не признавал коленопреклоненных молитв. Не любил итальянской живописи в церквах, а ратовал за возрождение старого иконописного стиля, на котором он воспитался в родной Новгородской губернии.
Митрополит никогда не смущался допущенными им случайно ошибками или промахами в богослужении (один только папа Римский думает, что он никогда не ошибается, – говаривал он). В этом равнодушии к своим несовершенствам и к тому, как их примут критики, было большое и настоящее смирение. Смирение и состоит отчасти в том, чтобы не ставить себя в центре общественного внимания. Характерный пример такой простоты и невозмутимости владыки Антония передал мне митрополит Владимир (Тихоницкий). Когда патриарх Григорий IV Антиохийский проезжал в 1913 г. через Почаев, то митрополит Антоний устроил там хиротонию архимандрита Дионисия (Валединского), будущего Варшавского митрополита, во епископа Кременецкого, своего викария. Это было большим и никогда не виданным торжеством на Волыни, особливо при участии патриарха. И вот, когда после малого входа и пения «Святый Боже» должна была быть совершена хиротония, все архиереи, вероятно, волнуясь от присутствия патриарха, забыли про ставленника и прямо после «Святый Боже» взошли на горнее место. Несчастный архимандрит Дионисий остался стоять в недоумении у престола. И вдруг на весь алтарь раздался звучный голос архиепископа Волынского Антония:
«Братцы, братцы, пойдемте скорей назад: про хиротонию забыли».
Это было так просто, так непринужденно и спокойно. Что думал бедный архимандрит Дионисий, не знаю. Но любители всюду подмечать приметы запомнили это не без суеверия, а потом в бытность Дионисия без лести преданным пилсудчине любили вспоминать про это «предзнаменование».
Навсегда останется воспоминание об этой невозмутимой тишине и трезвом спокойствии, которое исходило от митрополита при его служении. Его выводила из себя безграмотность чтецов, певцов или диаконов, театральность, вычурность, наигранность, искусственное умиление, словом, все то, что он презрительно называл «мистикой». Надо было видеть, как он читал домашнее правило; это одно из лучших воспоминаний, — совместная молитва, совместное чтение правила перед литургией с митрополитом Антонием. «Федя» читком, скороговоркой читает повечерие, а потом митрополит читает канон или акафист. Читает не спеша, просто, внятно, бесстрастно, крестится истово, красиво и уставно. Глаза смотрят перед собой совершенно спокойно, как-то особо трезвенно. Никогда не помню закрытых глаз, деланного слащавого тона, псевдо-умиления. Совершенно так же слушал он перед литургией чтение входных молитв. Когда он подходил к местным иконам с клобуком на плече, медленно кланялся в пояс или, когда можно по уставу, земно (кстати, какая красота были эти антониевские земные поклоны, несмотря на всю его грузность и старческое недомогание) и просто, без аффектации прикладывался к иконе.
Также и при облачении он спокойно и просто стоял на «рундуке» и с милой улыбкой умного лица смотрел, как «студентики» Миши, Сережи, Володи подносили ему облачение, облачали его, прислуживали ему. Старый протодиакон Вербицкий говаривал про него, про его облик при облачении: «Орел! Эк как стоит. Словно “овча на заколение ведеся”».
Строго и благоговейно стоял он во время литургии. С той же улыбкой он ждал радостного для него момента в чтении Писания или в евхаристическом каноне. Слова Спасителя под конец жизни часто произносил со слезами; нередко глаза увлажнялись слезами при слушании Евангелия, особливо при чтении им Страстных Евангелий. Боже! Как Антоний читал первое Страстное Евангелие. Кажется, и сейчас слышу его голос: «Ныне прославися Сын Человеческий…»
Он мог, правда, отпустить какое-нибудь замечание или зацокать языком от какого-нибудь промаха в словах, ударениях или неправильном каждении. Но это не было гневом или раздражением, а просто инстинктивным, рефлективным ответом, как у хорошего музыканта от фальшивой ноты в оркестре.
Он очень не любил отсебятины и неуставности. Всякие «жизнь» вместо «живот» и т. п. Осуждал Сергиевское (архиепископа Сергия Страгородского) исправление богослужебных книг: «вечеря Владычня» вместо «странствия Владычне» и т. д. Не любил, когда батюшки вместо уставного земного метания «по-бабьи» становились на колени, или, помилуй Бог, еще и на одно колено. Посмотрит бывало, искоса и с усмешкой: «Эк, мол, поп». Вообще считал, что уставно служат только монахи (исключено делалось только, может быть, для о. Петра Беловидова, не меньшего, чем сам митрополит, классика устава и богослужения). Не любил архиереев из вдовых батюшек, а так как таковых было в русской иерархии немало, то многих владык он не жаловал. Он уверял, что архиереи из вдовых не знают устава, что они и кадило готовы двумя руками благословлять, потому что «дорвались, мол, до архиерейства». Также не любил, когда архиерей на утрене перед славословием возглас «Слава Тебе, показавшему нам свет» произносил с дикирием и трикирием, а не просто воздевая руки. Это, собственно, обычай не великорусский. Его я видел у митрополита Евлогия и вообще западно-русских епископов. Сам митрополит Антоний, архиепископ Анастасий, епископ Гавриил никогда этого не делали и не одобряли этого, а все эти три владыки были великими мастерами богослужебной красоты.
Величествен был Антоний при хиротониях. Уверенно (сколько же сотен иереев и диаконов он посвятил!) совершал он это умилительное таинство. Наклонившись к уху ставленника и покрыв его голову омофором, он шептал ему (как сейчас помню эту незабвенную минуту:(
«Возведи очи сердца твоего к Престолу Господню, проси о прощении твоих грехов и о даровании тебе непорочного священства».
И часто, о, как часто при чтении совершительной молитвы, при умилительнейшем пении «Кирие элейсон» его глаза блестели от слез.
Несколько ниже я скажу о моем собственном рукоположении.
Я сказал, что Антоний не был мистиком и не признавал мистики в духовной жизни. Это странно при его уме и правильности восприятия церковной жизни. Но между тем это так. Объяснение этому я нахожу в том, что он всю свою жизнь боролся с рационализмом и схоластикой рационалистическим же методом. Рационализм и морализм были основными координатами его богословствования. Борясь против рационализма и отвлеченного богословствования в школе, он вводил, как оружие, тот же рационализм, но растворенный моралистическим пониманием догматов и духовной жизни. Это странно, но, тем не менее, это было основной слабостью владыки. Вместо того, чтобы схоластике наших семинарских учебников противопоставить мистическую интуицию, апофатическое и даже антиномическое богословие, он рационализировал до конца и морализировал. У него все было и должно было быть ясным в его ответах на богословские вопросы. Я уже сказал, что у него совершенно отсутствовало чувство проблематичности.
В своем нравственном восприятии догматов он, конечно, оживил сухую и отвлеченную схоластичность макариевской догматики. Догматы стали для него, а через него и для его слушателей, живыми истинами. Он ими жил, как жили ими и святые отцы. Это незабываемая заслуга Антония, но это же и его слабое место, так как не все в духовной жизни ограничивается одним нравственным моментом. Морализирование приводит легко к протестантскому пуританизму, к своеобразному кантианству. И, как это ни странно, для митрополита Антония Кант был ближе, чем мистики из отцов Церкви. Многое и у Толстого (его морализирование) было для Антония приемлемее, чем Соловьевские потуги мистических откровений. Этим, конечно, я нисколько не сближаю Антония с Толстым. Между ними лежала непреодолимая бездна толстовской нецерковности.