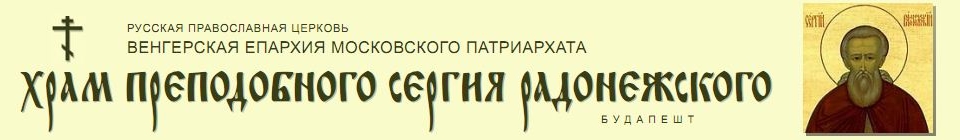ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА
ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ
РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
ПЛАН ПРОЕЗДА
О ПРИХОДЕ
СЛОВО НАСТОЯТЕЛЯ
СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ
ЖИЗНЬ В ЦЕРКВИ
ХРИСТИАНСТВО
В ВЕНГРИИ
ПРАВОЛСЛАВНАЯ
МИССИЯ В МИРЕ
НАШЕ ПРОШЛОЕ
И НАСТОЯЩЕЕ
МУЧЕНИКИ
И ИСПОВЕДНИКИ
ХРИСТИАНСКИЕ ПРАВЕДНИКИ
ЦЕРКОВЬ
И ГОСУДАРСТВО
СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
ВОСПОМИНАНИЯ
И ДНЕВНИКИ
ВСЕХ ИХ СОЗДАЛ БОГ
СОВЕТЫ ВРАЧА
БИБЛИОТЕКА
СТРАНИЦА РЕГЕНТА
ФОТОГАЛЕРЕИ
ДУХОВЕНСТВО ХРАМА
НАШИ РЕКВИЗИТЫ
КОНТАКТЫ
ССЫЛКИ
ОТПЕВАНИЯ
Федор Иванович Шаляпин
† 12.04.1938 г.
Одно из первых отпеваний, в котором мне пришлось участвовать еще в сане диакона в марте 1938 года, было отпевание нашего великого артиста и певца Федора Ивановича Шаляпина. Кто такой Ф. И. Шаляпин и каково его место в русской культуре, думаю, говорить не надо. О его жизни и творчестве написано много книг и при его жизни и после его смерти. Одной из лучших, написанных еще до революции, была книга моего дяди, Эдуарда Александровича Старка (Зигфрида). Увы, сейчас делается все меньше и меньше лиц, лично слышавших этого великого во всех отношениях артиста, и я счастлив, что, живя под Парижем в довольно стесненных обстоятельствах, все же удавалось выбраться в Париж на все спектакли с участием Ф. И., а также на его ежегодные концерты, которые
он давал в зале Плейель совместно с архиерейским хором под управлением Н. П. Афонского. Обычно первую часть концерта он пел с хором церковные песнопения: «Ныне Отпущаеши» Строкина, ектению Гречанинова и другие, потом вторую часть пел только хор, а в третьей части Ф. И. пел один арии из опер, романсы, русские народные песни. Всегда в первом ряду сидел наш Владыко Митрополит Евлогий с кем-нибудь из высшего духовенства. Я в те времена был еще мирянином. Также посещали мы, хотя и не без труда, его выступления в Русской Опере князя Церетели, где он пел Бориса Годунова и Кончака. Раза два он спел за один вечер и Кончака, и Галицкого, но нам в этот раз попасть в Париж не удалось.
К моменту смерти Ф. И. я был совсем молодым и малоопытным диаконом, а пело три хора: архиерейский, под управлением Н. П. Афонского, хор русской оперы и еще какой-то третий, уж какой — я не могу вспомнить, может быть даже и французский. Так как наши маститые протодиаконы боялись, что я не попаду в нужный тон хора, мне не доверили сказать ни одной заупокойной ектении и мое участие сводилось к тому, что я все время совершал каждение гроба, по французскому обычаю заколоченного. Дело было в Великом Посту и совершалась литургия Преждеосвященных Даров, которую, по-моему, совершал не Владыко, а только местное духовенство Собора. Из служивших в тот день в живых остался, кроме меня, только архимандрит Никон (Греве), находящийся сейчас в США, на покое, в сане архиепископа.
После литургии начался чин отпевания, который возглавил Владыко митрополит Евлогий. Вся служба, как литургия, так и отпевание, передавались по французскому радио. После отпевания и прощания с усопшим гроб на руках вынесли артисты, среди которых мне запомнились А. И. Мозжухин, певший часто по очереди с Ф. И. в операх, бас Кайданов, которого Ф. И. очень любил в партии Варлаама в «Борисе Годунове», потом Сергей Лифарь — ведущий балетмейстер Большой Парижской Оперы и еще кто-то — всего их было, кажется, 8 человек, так как гроб был большой и тяжелый. Не удивлюсь, если внутри деревянного был металлический.
Не только весь собор на улице Дарю был переполнен народом, но и вся церковная ограда, все улицы, окружавшие собор, были забиты машинами и толпами людей. Телевизионных передач в то время еще не было. Почему-то мне не запомнился никто из семьи покойного, зато запомнился роскошный покров темно-красного бархата, шитый золотом, музейное сокровище, которым был накрыт гроб.
После похорон его пожертвовали в собор и он лежал на плащанице в течение всего года. Запомнились и особые напевы привычных песнопений «Со святыми упокой» и «Вечная память», чуть ли не специально написанные кем-то из композиторов для этого дня. Надо сказать, что, не входя в обсуждение художественной ценности этих произведений, впечатление от них было несколько детонирующее (по крайней мере у меня), так как с этими молитвами уж слишком тесно связан обычный мотив. Когда гроб вынесли на плечах из собора и установили его в похоронный автобус, стали выносить бесконечные роскошные венки. Их было множество, и их развешивали на двух специальных автомашинах вроде гигантских вешалок, на которые в несколько рядов и этажей помещались венки. Затем автобус с духовенством, много других автобусов для присутствующих и, наконец, неисчислимое количество частных машин. Семья, вероятно, поместилась в автобус с гробом.
Из Русского собора процессия поехала на площадь Оперы, где перед Оперным театром была сделана остановка. Была отслужена заупокойная лития и пропета Вечная память. А от Оперы вся процессия проследовала на кладбище Батиньоль на окраине Парижа, в его северной части.
Тут я должен сделать отступление. Многие потом спрашивали, почему Ф. И. Шаляпин был похоронен на этом малоизвестном и окраинном кладбище, а не на Русском кладбище Святой Женевьевы? Мне лично дело представляется таким образом: обычно всех богатых и известных людей в Париже хоронили или на кладбище Пер Лашез, или на небольшом кладбище в центре города, на площади Трокадеро — Пасси. Там, между прочим, похоронена известная в свое время Мария Башкирцева. Оба эти кладбища очень дорогие, заставлены громоздкими и часто безвкусными склепами-часовнями, часто с большой претензией. Зелени на этих кладбищах сравнительно мало, только вдоль дорожек аллеи, а между могил редко встретишь деревце. Думаю, что Ф. И. часто бывал на
погребениях различных артистических знаменитостей и, возможно, как-то раз, попав на более скромное и более тенистое кладбище Батиньоль, мог сказать: «Я бы хотел лежать на таком кладбище», имея в виду — не в каменных коробках Пер Лашез. Во всяком случае, при его похоронах семья сослалась на то, что это место Ф. И. сам выбрал. Кладбище Ст. Женевьев в 1938 г., к моменту смерти Ф. И. уже существовало, но не как специально русское кладбище, Некрополь, а просто на французском деревенском кладбище хоронили пенсионеров Русского Дома-Богадельни. К 1938 г. там могли быть какие-нибудь 50 могил. К началу войны их стало 350, помимо пенсионеров Русского Дома стали привозить гробы из Парижа. К моменту моего отъезда из Ст. Женевьев могил было уже около 2000, и среди них много знаменитостей, а в данный момент, вероятно, количество русских могил перешагнуло за 10 000. Местные муниципальные власти ввиду увеличивающегося значения Русского кладбища отводили под него все новые и новые земли, и постепенно оно захватило все окружающие поля. Но в момент смерти, а тем более до смерти Ф. И., о Русском кладбище Ст. Женевьев не было и разговоров, и поэтому, вероятно, ему приглянулось кладбище менее пышное, с березками, более напоминавшее ему родную русскую землю, чем холодные и вычурные громады Пер Лашез. Так или иначе, но привезли его на Батиньоль... На громадном дубовом гробу была медная дощечка на французском языке: «Федор Шаляпин. Командор Почетного Легиона. 1873—1938». Я не помню, в котором часу мы вышли с кладбища, но думаю, что было уже под вечер.
После смерти о Ф. И. Шаляпине много писали как русские, так и иностранные газеты и журналы, выяснилось многое, о чем не знали при его жизни. Например, была общеизвестная версия о неотзывчивости артиста, о его какой-то скупости, жадности. Он неохотно шел навстречу всяким благотворительным вечерам, в которых поначалу его просили участвовать. Он сам в шутку говорил: «Вот, говорят, Шаляпин скупой... Попробуй быть не скупым, когда надо содержать две жены и десять детей!» Действительно, он продолжал помогать своей первой жене, оставшейся со старшей дочерью Ириной в Москве, ставил на ноги не только своих детей от двух браков, но и детей второй жены, Марии Валентиновны от ее первого брака. Но только после его смерти выяснилось, как много помогал он, причем так, что никто об этом не знал. Сколько помощи оказывал он тайно комитету М. М. Федорова, помогал неимущим студентам, сколько поддержки оказывал он и нуждающимся артистам...
Хочется отметить и еще одну черту его характера: 16 января 1934 года умер в Париже один из виднейших представителей парижского духовенства — протоиерей Георгий Спасский. Он был крупный проповедник, очень уважаемый духовник... После его смерти в одной из парижских русских газет была помещена большая статья Ф. И. Шаляпина, посвященная «Моему духовнику». Прочитав ее, делалось ясно, что отношение Ф. И. к Богу и к Церкви было не просто данью обычаю, не выражением своего рода «коммильфо», а действительно глубоко пережитым ощущением человеческой души. Помню, за несколько лет до кончины Ф. И. тяжело заболел. Он тогда попросил духовника приехать к нему, причастить Святых Тайн и пособоровать, что и было сделано, после чего Ф. И. стало лучше и он выздоровел. Это показывает глубокое отношение человека к вере и к своему Создателю.
Прошло несколько лет после его погребения. Разразилась война... Вся семья Ф. И. перебралась в США, подальше от военных действий, и могила великого артиста осталась в забытьи. Никто не посещал отдаленное и малоизвестное кладбище Батиньоль. Многие, приезжавшие в Ст. Женевьев на Русское кладбище, в церкви которого я в то время служил, спрашивали у нас: «А где могила Шаляпина?», и удивлялись, узнав, что он похоронен не у нас. Потом в одной из эмигрантских газет появилась статья, в которой с возмущением говорилось о заброшенном виде шаляпинской могилы. У нас появилась мысль о необходимости переноса праха великого артиста на наше кладбище, к этому времени ставшее «Русским Некрополем».
Воспользовавшись после войны приездом в Париж вдовы артиста Марии Валентиновны, мы от имени Попечительства кладбища (был такой комитет, заботящийся о благоустройстве кладбища) посетили М. В. и предложили ей перенести прах ее мужа на наше кладбище, или в могилу в земле, или даже похоронить под храмом в склепе, где уже лежали Владыко митрополит Евлогий, Епископ Херсонесский
Иоанн, бывший премьер-министр Российской империи граф В. Н. Коковцев, а также духовник Ф. И. протоиерей Георгий Спасский.
Мария Валентиновна отклонила наше предложение, сказав, что не хочет тревожить прах мужа с места, которое он сам якобы выбрал, потом прибавила: «Я поняла бы, если бы потревожили его для того, чтобы свезти на родину, в Россию...», — но тут же прибавила, видимо, учитывая эмигрантскую сущность нашего комитета: «Но, конечно, не сейчас и в других условиях.» Но все же у нас осталось впечатление, что в Россию она бы перевезла, и даже появилась мысль, не ведет ли она уже переговоры об этом, которые от нас скрывает, как скрывал А. И. Куприн свой отъезд на родину...
Помню, наш архитектор А. Н. Бенуа, один из плеяды этой высокохудожественной семьи, построивший храм на кладбище и создавший много очень ценных и оригинальных надгробий, предложил соорудить в склепе над прахом Ф. И. Шаляпина подобие гробницы Бориса Годунова! Эта мысль, хотя и соблазнительная, учитывая значение роли Бориса Годунова в творчестве Ф. И., была основана на недоразумении и незнании фактов. Все семейство Годуновых погребено в Троице-Сергиевской Лавре, под Успенским собором и не имеет никакого надгробия, а тем более гробницы, а только доску с надписью «Усыпальница семьи Годуновых». Кроме того, семья Ф. И. во время наших переговоров выставила еще одно, совсем уже нелепое препятствие: «Приезжая в Париж, будет далеко ездить на могилу.» Явная нелепость. Проехав из США в Париж и имея автомобили, трудно преодолеть еще 40 километров! Было очевидно, что это просто отговорка. Нам казалось, что родственники просто ожидают возможности перевоза праха в Россию, но не хотят об этом говорить эмигрантам, не зная, как это будет принято.
Так этот вопрос и заглох. Умерла и вдова Ф. И., и почти все деятели нашего комитета «Кладбищенского попечительства», пришли новые люди, которым Ф. И. не был близок. Я сам вернулся на родину... Но вот в 1973 году исполнилось сто лет со дня рождения Ф. И., и в связи с этим событием в нашей советской прессе появился ряд статей. В журнале «Наш современник» — статья Владимира Солоухина «Три хризантемы» о том, как, будучи в Париже, он хотел положить эти три цветка на могилу Шаляпина и каких трудов ему стоило узнать, на каком кладбище он похоронен, и, наконец, уже в день отъезда, попав на кладбище, сколько трудов он затратил на то, чтобы найти могилу певца (хотя теперь, вероятно, на ней стоит приличное надгробие) и положить свои три хризантемы.
Этот рассказ вновь пробудил во мне чувства, которыми мы руководствовались, когда пытались спасти могилу нашего великого земляка от забытья. Ведь, бывая в Москве, часто наведываясь на кладбище Новодевичьего монастыря и посещая могилу Собинова, Неждановой, Станиславского, я всегда ощущал, что место Федора Ивановича здесь, среди земляков и соратников по искусству, среди своего русского народа, который он так любил. А тут еще в «Огоньке» появилась статья И. С. Козловского, в которой он, отдавая дань Ф. И., вскользь высказывал мысль об уместности рано или поздно перенести его прах в Москву.
Я загорелся вновь моей старой идеей, а так как к этому моменту из всей нашей старой «кладбищенской» плеяды в живых остался я один, то и решил, что надо начинать что-то делать мне. Я написал И. С. Козловскому, написал дочери Ф. И. Ирине Федоровне, получил от обоих самые живые и одобрительные отклики, хотел привлечь к этому и В. Солоухина, но нам не удалось встретиться. Потом заинтересовал одного из руководителей общества «Родина» и через него попытался что-то сделать. Как мне стало известно, этот проект очень заинтересовал и «Родину», и Министерство культуры, и ЦК КПСС, дети покойного также отнеслись к нему положительно, особенно находящаяся в Москве старшая дочь Ирина. Но одна из младших дочерей, Дарья Федоровна, вышедшая замуж за графа Шувалова, выставила просто неприличное условие: выплату, хотя бы частично, ущерба, нанесенного Ф. И. Шаляпину конфискацией его недвижимого имущества в России. Об этом написал в журнале «Огонек» кажется, И. С. Зильберштейн. А по французским законам, эксгумация тела может быть разрешена только в случае согласия всех наследников. После такого просто позорного «торга» все надежды перенести прах нашего великого артиста на родную землю погасли, и приходится примириться с мыслью, что пройдет еще 50—100 лет —
и эта могила превратится в лучшем случае в археологический объект, если не разрушится совсем, так как память о Шаляпине за рубежом станет достоянием в лучшем случае искусствоведов, а для рядовых французов она погаснет, как погасли для нас, русских, имена, когда-то гремевшие: Малибран, Полины Виардо или Генриетты Зонтаг. На русской земле Шаляпин навсегда остался бы Шаляпиным, как незабываемы остались Федор Волков, Истомина, Мочалов...
В силу этого же закона невозможно перенести на родину из Ниццы прах А. И. Герцена, там погребенного, так как не удается установить всех наследников. А вот прах А. К. Глазунова удалось вернуть в Некрополь родного Питера... Чтобы закончить мои думы о Федоре Ивановиче, хочется привести два анекдота: один — случившийся лично с ним, а другой — им самим рассказанный.
Как-то, до войны 1914 года, Ф. И. Шаляпин был приглашен петь на каком-то приеме во дворце Великого Князя Владимира Александровича, на Английскую набережную в Петербурге. После концерта великие мира сего развлекались в особом салоне, а другие гости, в том числе и Ф. И. — в соседних гостиных. И вот лакей на подносе подает Ф. И. бокал венецианского стекла с шампанским от имени жены Вел. Кн. — Великой Княгини Марии Павловны с предложением выпить за ее здоровье. Ф. И. выпил и сказал лакею, что бокал берет себе на память о высочайшей милости. Прошло сколько-то времени. Шаляпин пел в Мариинском театре. После представления его пригласили в ложу к Вел. Кн. Марии Павловне, чтобы принять ее поздравление за хорошее выступление. «Вы — разорительный человек, Шаляпин, — сказала ему Вел. Кн. — Аплодируя вам, я порвала мои новые перчатки. А в прошлый раз вы разрознили мой набор из 12 венецианских бокалов!» На что Ф. И., вежливо склонив голову, ответил ей: «Ваше императорское высочество, эту беду легко исправить, если Вы присоедините 11 оставшихся к пропавшему...» Боюсь, что Великая Княгиня не оценила юмора артиста и серия бокалов осталась разрозненной.
Другой анекдотический случай рассказал сам Ф. И., и, хотя он довольно известный, все же считаю уместным его повторить. На заре театральной деятельности Ф. И. играл в одной провинциальной труппе. Давали что-то африканское... То ли «Африканку» Мейербера, то ли что-то в этом роде. По ходу оперы актер стреляет во льва, стоящего на высокой скале и убивает его, причем лев падает со скалы на подложенные внизу маты. Льва изображал человек, зашитый в шкуру. Обычный исполнитель этой эпизодической роли не то заболел, не то запил, и взяли какого-то другого статиста. Вот, проходит действие, стрелок выпускает стрелу. Лев стоит и не падает... Чтобы спасти положение, стрелок вновь заряжает свой лук, а из-за кулис шипят льву: «Падай! Да падай же, С. С.!» Лев трясется и не падает. Наконец, после третьей стрелы и еще более грозного рыка режиссера лев в отчаянии подымается во весь свой рост, осеняет себя в ужасе крестным знамением и тогда летит со своей скалы. Этот случай, приводившийся неоднократно, в устах Ф. И. приобретал полную достоверность.
Хочется все же верить, что наступит момент, когда или аппетиты Дарьи Федоровны уменьшатся, или пробудится совесть, или произойдут какие-нибудь иные изменения, и кто-то сделает то, что так хотелось мне осуществить, и прах Федора Ивановича найдет свое законное место в Некрополе Русской Славы на кладбище Новодевичьего монастыря... А пока, проезжая в машине мимо дома покойного Ф. И. и глядя на его мраморный бюст, украшающий фасад этого небольшого домика, я всегда возношу тихую молитву о его упокоении и благодарю Бога за то, что Он дал мне возможность видеть и слышать этого неповторимого артиста и удостоил меня чести проводить его в его последний жизненный путь, хотя и на чужой, но гостеприимной земле Франции.
Графиня Дина Татищева
† 17.08.1940 г.
Мой первый самостоятельный приход был Монруж — сразу за городской чертой Парижа. Но мне приходилось обслуживать и близлежащие местечки, не имевшие своих русских церквей. В одном из таких местечек жил граф Николай Дмитриевич Татищев, человек очень церковный, с которым мы были достаточно близко знакомы, т. к. он посещал иногда мой храм. Его отец, к тому времени уже умерший, был в свое время Ярославским губернатором, а его мать, Вера Анатольевна, была урожденная Нарышкина, дочь Обер-гофмейстерины Высочайшего двора, т. е. одной из самых видных дам придворного ведомства. Вера Анатольевна проживала как пенсионерка в Русском Доме Ст. Женевьев де Буа, и мы были с ней в очень добрых отношениях. Я знал, что Николай Дмитриевич был женат на графине Капнист (их свадьба была почти одновременно с нашей, и мы с ним ждали наших невест из Ниццы одним поездом в апреле 1929 г.). Слышал я, что Н. Д. женился вновь, но на ком, не знал и как-то не спрашивал его мать.
В августе 1940 г. почти сразу после занятия Парижа немцами, когда еще никакой транспорт не действовал, меня по телефону вызывает Николай Дмитриевич и спрашивает, могу ли я приехать к нему (это было километрах в 50 от нас), т. к. у него умерла жена. Ну, конечно, я сказал, что сейчас же выезжаю, сел на свой велосипед и поехал. Приехав к Татищевым, я застал там много народа, двух мальчиков-сироток лет 5—7. Усопшая лежала под иконами, занимавшими почти всю стену над ее кроватью, на руках у нее были четки. Мне рассказали, как сознательно она умирала с именем Иисуса на устах, как благословила своих деток. В общем, атмосфера была столь трогательной и умилительной, что я вознесся духом и служил панихиду с особым подъемом. Потом Николай Дмитриевич спросил меня, смогу ли я приехать завтра, чтобы совершить на дому чин отпевания. Я, конечно, ответил согласием и был несколько удивлен тем, что он особенно горячо благодарил меня и раза два переспрашивал, правда ли, что я приеду и можно ли об этом объявить.
Потом он вызвался проводить меня до околицы и при прощании еще раз горячо благодарил. Я спросил его, почему он так меня благодарит, когда я только выполняю свой долг. Он мне ответил: «Я боялся, что Вы откажетесь ее отпевать». «Почему?» «Да ведь она — некрещенная еврейка!» Тут уж я изумился окончательно. Мне в голову не могло прийти, что графиня Татищева, жена столь церковного Н. Д., может быть некрещенной еврейкой. Что было делать? Посоветоваться не с кем. Мой настоятель, протоиерей Лев Липеровский тоже уехал при приближении немцев. Снестись с Парижем, с Владыкой Евлогием, было невозможно. Телефон туда не действовал, да и говорить о таких делах в условиях немецкой оккупации было невозможно. После недолгого колебания я все же решил совершить отпевание, хотя не был уверен в каноничности этого решения...
Я спросил у Н. Д., как же так получилось, и он мне рассказал следующее: из Кишинева, бывшего тогда частью Румынии, в Париж для учения приехали три сестры — дочери не то раввина, не то кантора, но, в общем, из старой патриархальной еврейской синагогальной семьи. Познакомившись с ними, Н. Д. сблизился с одной из них, и под его влиянием она уверовала в Христа и решила креститься. Шел 1938 год, Европа уже пылала в пожаре войны. Чтобы повидаться с дочерями, собирались приехать родители из Кишинева, отчетливо понимая, что немцы скоро будут в Румынии, и тогда родителям может быть конец, и, во всяком случае, возможность свидания отпадает. Вот Дина и сказала Н. Д.: «Я не могу начинать свою христианскую жизнь со лжи — утаить от родителей такую вещь. А сказать им, что я христианка — это значит их убить. Пусть они приедут, мы попрощаемся и расстанемся, уж, вероятно, навсегда». Возможно, что это было позднее, в 1939 году. Когда родители уехали, история завертелась. Неожиданное нападение на Францию не дало ей возможность подготовиться к крещению, потом бегство пешком с малыми детьми по дорогам Франции, ночевки под бомбами под телегами и грузовиками и — возвращение домой с острой формой скоротечной чахотки. Вот так она и не успела стать христианкой по каноническому положению, хотя умерла христианкой по своему углубленному духу. На другой день я опять приехал на велосипеде. Совершил с большим духовным подъемом чин отпевания, проводил гроб на местное кладбище... Когда наладилось сообщение с Парижем и я смог поехать к Владыке, я рассказал ему, как перенесли момент оккупации, что произошло и в Русском Доме Ст. Женевьев, и в нашем детском доме Вильмауссон (они отстоят друг от друга на 4—5 км), потом я долго не знал как начать и наконец сказал, что сделал нечто такое, о чем даже боюсь сказать.
Он меня долго спрашивал и, наконец, я осмелился сказать, что отпел некрещенную еврейку. Владыко поначалу сделал строгий вид и спрашивал: «Как же ты мог? Как? И Евангелие читал? И «Со святыми упокой» пел? И «Вечную память» возглашал? Как же ты это сделал?» Я ему сказал все, как было, как она умирала. Потом сказал, что остались две сестры, которые тоже тянутся ко Христу, и я мог бы им показать пример отсутствия любви и наконец сказал, что не посмел отказать ей в недрах Авраама, Исаака и Иакова, на которые она имеет больше прав, чем я сам по своему происхождению и по духовной настроенности. Владыко рассмеялся, привлек меня себе на грудь и сказал: «Спасибо тебе, мой мальчик, что я в тебе не разочаровался!» «Но, Владыко, — сказал я, — в метрические книги я ее не записал». «А вот это уж мудро», — ответил мне Владыко. Потом я неоднократно спрашивал и архиереев заграничных, так сказать синодальной школы, и наших современных советских, — и все мне сказали, что поступил я правильно.
Остается добавить, что сиротки были помещены к нам в детский дом и долгое время жили у нас, под нашим присмотром. Вернувшись на Родину, я иногда имел о них сведения. Потом неожиданно старший из них, Степан, появился у меня в Ярославле. Оказывается, он работает в Москве во французском посольстве как атташе по делам культуры. Он приезжал так к нам раза три. Один раз с женой и тремя детьми. Старший из них так похож на Степу тех лет, что, увидев его, я с трудом сдержался, чтобы не заплакать. А потом один раз он приехал со своим отцом Николаем Дмитриевичем, которому захотелось повидать город его юности, губернаторский дом его отца на набережной. В нем сейчас картинная галерея. О его приезде писали в нашей местной газете. Сестры покойной Дины — одна была схвачена немцами и погибла в лагерях смерти. Что стало с другой — не знаю. Последнюю встречу с погибшей Бетси я хорошо помню. Я был у них, она вышла проводить меня в коридор. Попросила благословить, т. к. знала, что положение очень опасное. Немцы вылавливали евреев. Я благословил ее и больше не видел. Через несколько дней ее забрали навсегда.
Князь Федор Николаевич
Касаткин-Ростовский
† 22.07.1940 г.
Как я уже писал, начавшееся в 1927 г. как приходское французское кладбище, где хоронили пенсионеров Русского Дома, Ст. Женевьев де Буа постепенно стало расширяться и принимать помимо умерших в Русском Доме и умерших в Париже русских эмигрантов. Постепенно появилось и еще одно явление: по французским законам места на кладбищах продавались на разные сроки — на вечные времена, что было доступно только очень богатым людям, на 100 лет, на 30, что тоже было не по карману большинству эмигрантов, и, наконец, бесплатные могилы на 5 лет. Кроме того, цены видоизменялись еще и по фешенебельности самого кладбища.
Могила на Пер Лашез или Пасси была признаком большого богатства. Причем, могилу, купленную на 30 или на 100 лет, можно было потом продлить на более долгий срок, уплатив разницу. Что же касается до бесплатных могил, то через пять лет надо было или перенести прах (или то, что от него осталось) на новый участок на том же кладбище, можно и на бесплатный, уплатя только расходы по самому переносу, или же прах переносился, вернее, кости ссыпались, в общую могилу, из которой потом они оптом перевозились в парижские катакомбы — подземные бесконечные галереи от старых разработок, тянущиеся на несколько километров. Во время франко-прусской войны 1870 г. катакомбы использовались защитниками Парижа, а в наше время там была как бы общая братская могила парижан за много веков. Вход в нее — на площади Данфер Рошеро напротив знаменитого Льва, воздвигнутого в честь воинов 1870 г. Я там не был, но видел фотографии и открытки с видами этих галерей, где в полном порядке, даже с претензией на декоративность по стенам разложены черепа, берцовые кости, кости рук, между которых виднелись позвоночные кости, ребра и фаланги пальцев. В момент похорон у русских эмигрантов редко бывали средства на похороны с постоянной могилой, но через пять лет после похорон приходилось думать — что делать дальше. И так как у нас сохранилась наша традиционная «любовь к отеческим гробам», то, собирая часто последние крохи, прах любимого и близкого человека переносился на новое место. Вскоре созрело решение: раз все равно тревожишь прах, то лучше уж переносить не на новое место на том же пригородном парижском кладбище, где через пять лет вновь встанет вопрос перезахоронения, а сразу отвезти прах на Русское кладбище, где в силу его отдаленности от Парижа и деревенского значения цены на землю были много ниже и можно было сразу купить могилу на 30 лет с тем, чтобы потом переделать ее на 100 лет, тем более, что подсознательно тлела надежда, что, поскольку кладбище стало памятником истории и культуры, его вообще оставят так, как оно есть. И вот все больше и больше стали случаи, когда просили проехать в Париж и перевезти прах того или иного эмигранта на наше кладбище. Иногда в могилу уже похороненного родственника, иногда в новую могилу. Иногда перевозили сохранившийся гроб, иногда вкладывали его в новый деревянный футляр, но чаще всего перекладывали косточки в маленький гробик, величиной с детский: череп вверху, кости рук и ног по бокам, а между ними все прочие мелкие косточки. Это стало постепенно большой частью моей деятельности как кладбищенского священника. Так, после смерти моего сына я перевез на наше кладбище с других кладбищ прах моей тещи, моей тети, дяди и других родных, всех их сосредоточив в Ст. Женевьев, под сенью Успенской церкви.
Одним из первых, кого мне пришлось перевозить из Парижа, был князь Федор Касаткин-Ростовский. Блестящий офицер лейб-гвардии Семеновского полка, видный поэт предвоенного времени. После провала Белого движения, в котором он принимал участие, и выезда на чужбину он работал грузчиком в Болгарии или Сербии. На память об этой его жизни осталось чудное стихотворение, полное достоинства, которое, к сожалению, мне не удалось сохранить. Остались в памяти только первые строки:
Мы — грузчики, мы разгружаем вагоны,
Мы трудимся честно, а не за страх.
Мы — те, кто когда-то носили погоны,
Теперь же мы носим мешки на плечах...
Вторую строчку я не помню и воспроизвожу произвольно. После Болгарии он перебрался в Париж, где жил со своей женой, известной в свое время артисткой Петербургского Суворинского театра Диной Никитичной Кировой, блиставшей в театре на амплуа инженю. Похоронив мужа и оставшись одна, она все силы приложила для издания книжки его стихов. В первое время она играла в разных эмигрантских антрепризах, в частности у Екатерины Николаевны Рощиной-Инсаровой (сестра В. Пашенной), потом стала приближаться старость. Война фактически прикрыла все театры, и тогда ее устроили бельевой дамой в наш детский дом, где она одновременно помогала нам с нашими самодеятельными спектаклями. Вот она и попросила меня перевезти прах ее мужа на наше кладбище. В благодарность она подарила мне книгу его стихов с трогательной надписью, но так как он все-таки был в свое время белогвардейским офицером, то эта его психология отразилась частично в его стихах, и, возвращаясь на Родину, я предпочел не брать ее с собой, о чем теперь сожалею. В памяти у меня осталось лишь два стихотворения. Первое посвящено сестрам милосердия во время войны 1914 г., трудившимся на фронте, и раненым воинам.
НАРЦИССЫ И ТЮЛЬПАНЫ
Белые нарциссы, красные тюльпаны,
Символ ваш сокрытый — кровь и чистота.
Белая повязка, пурпур алой раны,
Смерть — и жизни трепет, мука — и мечта.
Там, за рамой дальней жизненной кулисы,
Льется кровь рекою в стычках и боях.
Красные тюльпаны, белые нарциссы
Там растут повсюду на родных полях.
Второе, написанное уже в эмиграции, конечно, тоже отражает настроение этого благородного и честного человека, в силу своего воспитания не понявшего, что перелистывается страница истории и наступает новая эпоха.
Как зов иль стон
Со всех сторон
Несется он,
Великопостный перезвон
Родных церквей...
Души печаль
С ним рвется вдаль,
В простор полей.
К лесным холмам,
К родным снегам
И к прошлым снам!..
В дворы усадьб, под кровли хат,
В сосновый бор, в заглохший сад,
В забытый дом...
Все близко там, все нас зовет —
И кладбищ тишь... и храма свод,
Где свечи белые горят,
Где озаряет блеск лампад
Оклад икон...
В чужой земле, бредя во мгле,
Мы жадно слушаем, как стон,
Великопостный перезвон.
Зовет он вдаль,
И сердцу жаль
Родной земли, родных полей!..
Тот звон твердит душе больной:
«Не плачь, не мучься, Бог с тобой...
Страдает Русь в цепях невзгод...
То — пост души, но он пройдет.
Всю тяжесть общего Креста
Неси и ты! И вновь очам
Предстанет Русский Храм!
Великопостный перезвон
Свой сменит он
На мощный зов!
Пасхальный звон колоколов
Тогда он бросит в свод небес,
Помчится счастья песня ввысь:
— Тяжелый гнет цепей исчез!
Воскресла Русь! Христос воскрес! —
Жди, верный... Сильным будь!
Молись!»
Мне было очень приятно, когда во время одной радиопередачи, посвященной Суворинскому (Малому) театру Петрограда и переданной по нашему Московскому радио, среди старых корифеев было упомянуто с благодарностью и имя Дины Никитичны Кировой, о чем я ей сразу написал в Ст. Женевьев де Буа, где она доживает свой век вблизи от могилы своего мужа, поджидающего ее. Она была очень тронута тем, что ее, несмотря на все, еще помнят на Родине.
Вера Трефилова † 11.07.1943 г.
Ведущая балерина Мариинского театра в Петрограде, блиставшая там наряду с Анной Павловой, Тамарой Карсавиной, М. Ф. Кшесинской... Ее гроб привезли после отпевания, совершенного в Париже, и мне надлежало совершить у открытой могилы заупокойную литию и предать тело земле. Я знал, что она известная балерина... Никогда ее не видал, ни на сцене, ни в жизни. Но знал, что она, подобно другим своим коллегам по сцене имела частную студию и занималась с маленькими девочками, стремящимися к балетной будущности. Но вот тут, стоя перед ее закрытым гробом, я вдруг почувствовал неожиданно такой прилив какой-то благодати, ощутил такое возношение духа, что служил привычную литию, несясь как на крыльях. Позднее я узнал, что она вела последние годы своей жизни буквально подвижнически. Каждое утро, до своей работы, ходила к ранней литургии и там, в уголке, молилась со слезами... Никто не может проникнуть в тайну чужой души, но, узнав это, я понял то необъяснимое чувство, которое ощущал у ее гроба и навсегда сохранил о ней память не только как о великой балерине (с чужих слов), но и как о великой праведнице.
Зоя Карловна Старк † 22.09.1935 г.
Сестра моего отца, старше его, тетя Зоя была старой девицей. В Тифлисском институте для благородных девиц она трудилась как воспитательница и даже, кажется, как инспектриса, после эвакуации жила во Франции, одно время с нами, давая нам уроки французского языка. Когда все мы уже стали на ноги, она переехала в обитель «Нечаянной Радости» — приют для девочек, в большинстве — сирот, возглавляемый игуменией Евгенией Митрофановой, в свое время до революции большой общественной деятельницей. Тетя Зоя всю свою жизнь отличалась большой религиозностью, а, поступив в обитель, хотя и не приняла пострига, но носила монашеское одеяние и фактически вела образ жизни монахини, причем, в особо трудных условиях, так как матушка Евгения — игуменья — была известна как человек очень суровый и требовательный и к себе, и ко всем своим сотрудникам.
К 70 годам тетя заболела общим туберкулезом и уже не могла жить ни в обители, ни у моего отца, который жил с моей сестрой в двух маленьких комнатках. Я в это время жил в провинции, имел казенный дом в три этажа. На верхнем этаже была устроена домовая церковь. Мы смогли выделить ей отдельную комнату и договориться с одной одинокой сестрой милосердия, старушкой, которая согласилась быть сиделкой при больной, т. к. на руках жены был весь дом и двое малых детей. Постепенно она угасала. Надо сказать, что наше материальное положение было более чем трудным. Отец мой работал шофером такси и как раз в это время был безработным, т. к. ни одна компания не брала такого пожилого шофера. Так что даже позвать врача нам было не под силу. Раза два из Ст. Женевьев де Буа приезжал на велосипеде наш друг отец Лев Липеровский, в прошлом земский врач, а в остальном полагались на Волю Божию. Один раз состояние Зои Карловны было так плохо, что мне казалось, что уже наступила смерть: пульс исчез, дыхание прекратилось, лицо постепенно стало белеть... Так мы просидели около нее сколько-то времени, сколько — не берусь сказать. Я хотел уж закрыть ей глаза, но вдруг она слабо вздохнула, потом шевельнула глазами, и постепенно жизнь стала к ней возвращаться. Это было дней за 10 до ее смерти. Вечером она нам рассказала, что сама ощущала, что умирает и как бы уже вышла из своего тела и смотрела на него откуда-то сверху. Видела нас, слышала наши разговоры о том, что смерть уже, видимо, наступила, и сама была убеждена, что это так и есть. Потом вдруг ей послышался как бы голос: «Еще рано!» и стремглав она как бы полетела вниз. Ощущение, как во время спуска на скоростном лифте. После этого она вздохнула и пошевелила глазами. Перед смертью отец Лев приезжал и причастил ее. Наше материальное положение было в тот момент так плохо, что мы реально не знали, как ее похороним по самому дешевому тарифу на местном деревенском кладбище. В этот день мой отец поехал в Париж, чтобы известить о ее кончине свою другую сестру. Когда он вернулся, то сообщил мне, что накануне был тираж Национальной лотереи, на которую у него был билет, и что этот билет выиграл ровно столько, сколько было надо для похорон. Приехал из Парижа наш друг архимандрит Никон, отпели на дому и потом дошли до близлежащего кладбища, где была выкопана могила, которую мы имели право занимать 10 лет.
Прошли года, и вот, в 1943 г., т. е. через 8 лет после смерти тети Зои, как я уже писал выше, я стал собирать со всех кладбищ прах своих родных и перевозить их на наше Русское кладбище. К этому времени наш бюджет несколько уравновесился, а хозяин бюро похоронных процессий, милейший бельгиец месье Бюффэ, которого я часто рекомендовал своим компатриотам и который считал себя мне обязанным и всегда помогал мне, безвозмездно предоставляя свой фургон и беря за гробы самую низкую плату, когда это касалось моей семьи или какого-нибудь моего благотворительного мероприятия. Так как в момент похорон мы купили гроб самого дешевого качества, могила была неглубокая. Прошло 8 лет, так что были все основания считать, что тело уже вернулось в землю, и остались одни кости. Поэтому мы, как и обычно, взяли маленький гробик, чтобы в него собрать косточки. Велико же было наше недоумение, когда открыв полуистлевший гроб, мы обнаружили, что верхняя часть тела представляет собой чистые кости. Череп лежит аккуратно в монашеском апостольнике, а часть тела ниже талии осталась абсолютно нетронутой. Юбка, чулки, туфли, которые я сам когда-то надевал на нее, наполнены совершенно нетронутой плотью. Пришлось срочно ехать в соседний город и в тамошнем бюро похоронных процессий покупать другой гроб, почти что нормальной величины. В недоумении мы с месье Бюффэ спросили могильщика, часто ли у них бывают такие явления. Может быть, свойство почвы способствует мумифицированию тел? Но сторож ответил, что за 30 лет своей работы на этом кладбище он только раз встретился с таким явлением, когда выкапывал тела двух католических монахинь! Привожу всю эту удивительную цепь событий: умирание прежде смерти, выигрыш в нужную минуту необходимой суммы денег на похороны и затем частичное нетление тела, как живой свидетель, не стараясь объяснить это логически... Для верующего человека и так все понятно!
Генералы
Николай † 12.02.1941 г.
и Владимир † 6.08.1941 г.
Свидерские
В марте месяце 1944 г. к нам на кладбище перевезли из Парижа два гроба двух братьев, генералов Свидерских. Перевозил их сын одного из них. Мне сразу вспомнилось событие, происшедшее где-то в 1927 г.
Я с моим двоюродным братом учился в институте электротехники и механики. Учиться мне было очень трудно ввиду плохого знания французского языка, а учебников не было, лекции записывались и конспектировались, что мне трудно было делать. Я напрягал свои усилия на более важные предметы, как высшая математика, электротехника, имевшие больший коэффициент в ряде отметок, а на второстепенные у меня просто не оставалось времени и сил. Среди таких второстепенных предметов были термодинамика и курс вибрации. Честно говоря, я не только ничего не знал в этих предметах, но даже неясно себе представлял, что такое курс вибрации, вибрации — чего? Пришел я на экзамен, заранее зная, что не смогу ответить ни на один вопрос. Хотя у нас была 20-балльная система, но практически 17 был уж мало кому доступный потолок. Почему так повелось, сам не знаю. Отметка 16 была уже превосходной.
Вот сижу я мрачно в экзаменационной, ожидая своей очереди, своего провала, и смотрю, как один мой одноклассник у доски решает задачу, чисто математическую, но, видимо, имеющую отношение к данному предмету. Так как математику я любил, то смотрел не без удовольствия на логическое разворачивание математической загадки. В это время где-то за дверью грохнул, как мне показалось, взрыв. Я подумал, что в мастерской, расположенной под нами, разорвалась какая-нибудь машина. Принимавший экзамен наш инспектор месье Каппель, человек очень горячий и несдержанный, выскочил за дверь и заорал не своим голосом: «Несчастный! Что вы наделали?» Мы выскочили вслед за ним и увидели лежащего на полу студента старшего класса Свидерского с револьвером в руке и истекающего кровью. Что же оказалось? Накануне были экзамены у старшеклассников. Свидерский что-то замялся с ответом и тогда, желая ему помочь, другой русский, Федя Бострем, сын адмирала, бросил ему шпаргалку. Месье Каппель заметил и разорался в свойственной ему несдержанной манере: «Ах! Эти русские! Ни в чем им нельзя верить, мы доверили наши деньги в их железные дороги, а они сделали революцию, а наши деньги пропали, потом вышли из войны, оставив нас, союзников, одних, и вот теперь — опять шпаргалка...», — после чего выгнал с экзаменов Свидерского и Бострема. Свидерский оскорбился не столько за себя, сколько за Россию, о которой столь непочтительно говорил инспектор, и счел уместным покончить с собой под его дверью. Вызвали скорую помощь, и я отвез его в близлежащий госпиталь. По счастью оказалось, что, желая попасть себе в сердце, Свидерский взял слишком влево и только пробил легкое. Его спасли, но больше я его не видел.
Результат для меня вышел неожиданный. Вернувшись в институт, я застал все еще не оправившегося экзаменатора, который сказал, что дальше экзаменовать не может, и отложил экзамен на неделю. Конечно, бессмысленно было в неделю рассчитывать что-то узнать, когда не знаешь даже, в чем суть предмета. И я эту неделю готовил другие экзамены, которые все же рассчитывал как-то сдать. Прихожу с чувством той же безнадежности. Тащу билет — и... о! чудо! Тот же вопрос, который передо мной решал мой товарищ. То есть, чисто математическая задача. А месье Каппель, глядя на меня поверх очков, говорит: «Опять эти русские!», как будто и от меня ждет чего-нибудь неожиданного. Я беру мел и на доске по памяти щелкаю решение этой задачи. Увидав мою прыть, а может быть, учитывая, что я русский, и боясь, что я тоже что-то выкину, мне поставили 19. Это кажется единственный случай за все время моего пребывания в институте. Все товарищи только рот раскрыли; а наш милейший директор, который любил русских, т. к. они во время той войны вызволили его из австрийского плена, увидав такой результат в моей зачетке, обвел цифру 19 красным карандашом и написал: «Вот — замечательный результат». А я получил эту отметку, так и не зная по сей день, что такое курс вибрации.
Все это мне вспомнилось в тот день, когда мой бывший однокашник перевозил гробы своего отца и дяди. После панихиды я с ним заговорил. Конечно, он меня не узнал и не ожидал видеть здесь, да еще в рясе. Больше я его не встречал, и воспоминание об этом случае из его молодости ему явно не доставило удовольствия.
Протоиерей Сергей Булгаков
† 13.07.1944 г.
Когда в первые годы нашего эмигрантского существования мы посещали все вместе храм, то обычно ехали в кафедральный собор на ул. Дарю. Но, когда мы с моим двоюродным братом уже поступили в институт и зажили несколько самостоятельной жизнью, то мы стали все чаще и чаще бывать в церкви вдвоем, причем, не в соборе, а на Сергиевском Подворье, на улице Крымской, где незадолго до этого был открыт Богословский институт. Там часто менялись молодые священники из студентов, но было два постоянных священнослужителя — настоятель, маститый архимандрит Иоанн (Леончуков), о котором речь будет ниже, и протоиерей Сергей Булгаков, инспектор института, видный богослов, он был председателем Братства Святой Софии Премудрости Божией и группировал вокруг себя все самые мощные богословские силы. Внешне неброский, со скорее некрасивым лицом монгольского типа, он покорял своей манерой служить. Он не служил, а горел, и это особенно ощущалось в Пасхальную ночь, когда, совершая каждение в храме или в ограде, он не шел по земле, а было явное ощущение, что он летит по воздуху, и его некрасивое лицо озарялось светом такой радости, что черты лица совершенно пропадали.
Первые годы в соборе мы исповедовались у видного духовника отца Георгия Спасского, но по нашей вине не получили с ним контакт, т. к. приходили всегда в Великом Посту, в дни особой перегруженности, и поэтому исповедь была сильно обезличена. На Подворье мы стали исповедоваться чаще. Но, должен сказать, что и с о. Сергием Булгаковым духовный контакт налаживался с трудом, хотя мой большой друг, с которым я незадолго до этого познакомился и очень сошелся, — профессор Лев Александрович Зандер — был духовным сыном о. Сергия и большим его почитателем. Думается мне, что о. Сергий привык к более интеллектуальным чадам, я же был еще очень молод и примитивен. Но дороги к моему сердцу полностью он не нашел, хотя я к нему всегда испытывал глубочайшее почтение.
Его богословские теории, которые вызывали много споров и смущений, его Софиология, которую он не проповедовал на своих лекциях по догматике при Институте, оставляли меня хладнокровным. Его книги были для меня слишком умными и поэтому, по-видимому, контакт не наладился, как сразу наладился с первой исповеди летом 1927 г. с Владыкой Митрополитом Евлогием, хотя на это я мог рассчитывать менее всего. Но, оказывается о. Сергий смотрел на это несколько иначе, и, когда узнал, что я теперь исповедуюсь у Владыки и что меня Владыко будет вместе с Л. А. Зандером ставить в чтецы, то удивился и... даже несколько обиделся: «Как же это? Ведь он — мой духовный сын...» Я себя таковым не считал на том только основании, что раза три у него исповедывался. Но все же мне пришлось проявить смирение и поехать перед ним извиниться и объяснить сложившуюся обстановку. У нас оставались очень хорошие отношения. Особенно он стал нам близок после смерти нашего сына Сережика, которого он знал и любил. После смерти сына он прислал нам чудесное письмо и свою статью «Софиология смерти» — главу из одной своей книги, где он описывает свое состояние, когда после операции он ощущал себя уже умирающим. После перенесенной операции горла (у него был рак гортани) он не мог уже говорить и читать лекции. У него была трубка, выведенная из горла, закрытая маленьким как бы передничком, и говорил он едва различимо квакающими звуками. Все же он читал лекции, но только для избранных и служил ранние литургии, на которых были только самые близкие его друзья, которых не смущала эта тяжелая и едва понятная манера говорить и читать. Мне думается, что его богословие, к которому наша Русская Церковь относится с осторожностью, еще ждет своего богослова-историка, т. к. среди православных церквей как Востока, так и Балкан его считали величайшим богословом нашего времени, хотя и не всегда разделяли его богословские установки. Он начал свою жизнь вне Христа и был близок, как и Струве, и Бердяев, и Франк к марксизму, от которого потом, под влиянием размышлений, вернулся ко Христу, для меня же, неудавшегося его духовного сына, он остался навсегда Пастырем... Свечой, горящей на свешнице, и примером для подражания.
Митрополит Евлогий † 8.08.1946 г.
О моем незабвенном Архипастыре, духовном Отце и Старце-Владыке Евлогий я уж, как сумел, подробно написал в отдельном томе*. Повторять не буду. Скажу только о некоторых подробностях его погребения. На похороны Покойного Архипастыря — Экзарха Московского Патриарха Патриархия прислала четырех представителей: митрополита Ленинградского Григория (Чукова), архиепископа Орловского Фотия (Тапиро), Л. Н. Парийского и С. И. Филиппова. Они прибыли накануне дня похорон и оба архипастыря совершали службу в сослужении наших местных архиереев: митрополита Серафима, архиепископа Владимира, епископа Иоанна, епископа Никона и многочисленного духовенства. После отпевания и предания земле тела почившего была устроена на территории Успенской церкви поминальная трапеза для всех присутствующих. Архиереев кормили в домике настоятеля о. Льва Липеровского. Потом о. Лев повел гостей показывать им кладбище, а митрополит Григорий остался отдыхать в комнате и о. Лев оставил меня, своего помощника, чтобы я остался с Владыкой Григорием.
Этот удивительный Святитель произвел на меня исключительно сильное впечатление. Иное, чем приезжавший ранее митрополит Крутицкий. Владыко Григорий был менее ласков, чем Владыко Николай, но казался Орлом, парящим надо всеми. Когда мы остались вдвоем, то Владыко стал меня расспрашивать обо мне. Я тогда всегда носил на руках четки по благословению митрополита Евлогия. Мой вид с длинными волосами, скуфьей, четками заставили Владыку Григория подумать, что я монах. Он спросил меня, откуда я родом, и узнав, что я петроградец, сказал: «О! Да мы земляки. В какие церкви Вы ходили, будучи в Питере?» Я стал ему перечислять те церкви, в которых бывал: наша богодельницкая церковь на 13 линии Васильевского острова, почетным настоятелем у нас был известный о. Александр Введенский, который и служил изредка по большим праздникам. В остальное время он служил, кажется, в Захарьинской церкви бывшего Кавалергардского полка. Услышав имя о. А. Введенского, Владыко скроил недовольную гримасу. Когда эту церковь закрыли, я стал ходить в Андреевский собор на углу Большого проспекта и 7 линии. Там был настоятелем о. Николай Платонов... Владыко Григорий еще больше скривился «Еще хуже»... «Но, Владыко, все это было еще до Обновленчества! Потом ходил к Скоропослушнице на Суворовский, к Николе Морскому на акафисты». ...Владыко посмотрел на меня и спрашивает: «А меня не узнаете?» Я сконфузился и говорю: «Нет, Владыко». «А Вы посмотрите получше. Вы в Никольском соборе настоятеля о. Николая Чукова помните?» «Ну, конечно!» «Так ведь это я и есть». Я так растерялся, что говорю: «Так ведь Вас же, Владыко, расстреляли в 1922 году!» (Владыко действительно был осужден вместе с Владыкой Вениамином и еще 9 представителями церкви по делу о ценностях. Все были присуждены к расстрелу, но потом, оказывается, шестерых помиловали и дали различные сроки, в том числе и о. Николаю Чукову. Я этого не знал и считал его умершим.) Также я сказал Владыке о моем желании вернуться на Родину и служить церкви на родной земле.
Он горячо одобрил мое намерение и тут же предложил ехать с ним вместе, что он устроит через посла. «Сейчас мне до смерти нужны кадры. Я рукополагаю часто людей только на том основании, что они благочестивы». Я ответил, что в данный момент еще не могу ехать, т. к. уехал с родной земли только для того, чтобы найти отца, а теперь он болен и бросать его мне сложно. Кроме того, очень важный приход Ст. Женевьев может отойти в раскол, уже намечающийся, и мне следует сперва прочно его закрепить за Московской Патриархией. Владыко мне говорит: «Через два года Вы мне не будете так нужны, у меня уже подрастут мои кадры из семинарии». Хотя я и не поехал с Владыкой сразу, но все же у меня было явное ощущение, что у свежей могилы моего Святителя Владыки Евлогия он передал меня из полы в полу» Владыке Григорию для возвращения в Русскую Церковь на Родной Земле.
Иван Сергеевич Шмелев † 24.06.1950 г.
У Ивана Сергеевича Шмелева, известного писателя, идущего по значению следом за Буниным и Куприным, на нашем кладбище была могила жены и сына Сергея. И. С. довольно часто посещал кладбище, служил панихиды на родной могилке. Я любил сидеть с ним рядом и говорить с ним. Это был человек не только большой культуры, но и большого сердца и не только просто, по-обывательски верующий, но пронизанный этой верой до самого своего нутра. Я помню, как-то раз мы сидели и он спрашивает меня: «А что Вам больше всего нравится из моих произведений?» Я несколько сконфузился. Надо было, видимо, говорить о его наиболее известных произведениях, но я не счел себя вправе лгать ему и ответил, что для меня самым близким являются его книги «Лето Господне», книга о Валааме, а кроме того, очень люблю его пьесу о журавле, оставшемся со сломанным крылом зимовать вдали от Родины. Я эту пьесу видел в Петроградском ТЮЗе в 1922 г., не зная, кто ее автор, и только недавно узнал, что она Шмелева...
И. С. встал, обнял меня и очень проникновенно сказал мне: «Как я рад, что Вы почувствовали главное!»