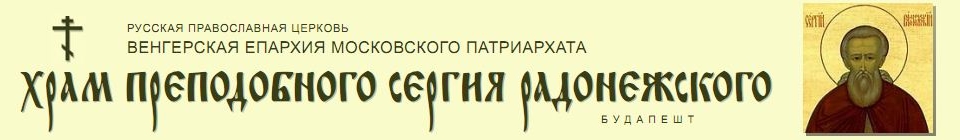ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА
ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ
РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
ПЛАН ПРОЕЗДА
О ПРИХОДЕ
СЛОВО НАСТОЯТЕЛЯ
СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ
ЖИЗНЬ В ЦЕРКВИ
ХРИСТИАНСТВО
В ВЕНГРИИ
ПРАВОЛСЛАВНАЯ
МИССИЯ В МИРЕ
НАШЕ ПРОШЛОЕ
И НАСТОЯЩЕЕ
МУЧЕНИКИ
И ИСПОВЕДНИКИ
ХРИСТИАНСКИЕ ПРАВЕДНИКИ
ЦЕРКОВЬ
И ГОСУДАРСТВО
СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
ВОСПОМИНАНИЯ
И ДНЕВНИКИ
ВСЕХ ИХ СОЗДАЛ БОГ
СОВЕТЫ ВРАЧА
БИБЛИОТЕКА
СТРАНИЦА РЕГЕНТА
ФОТОГАЛЕРЕИ
ДУХОВЕНСТВО ХРАМА
НАШИ РЕКВИЗИТЫ
КОНТАКТЫ
ССЫЛКИ
Воспоминания о Митрополите Антонии (Храповицком)
Архимандрит Киприан (Керн)
От автора: Маленький старинный городок в Бретани. Древний замок XII в., кривые улицы, дома с высокими грифельными крышами. Колокольный звон с утра до вечера; на улицах монашки и кюре. Серенький осенний денек. И мне, приехавшему отдыхать в это захолустье, стало нестерпимо тоскливо от многих обстоятельств и переживаний. Вспомнив пожелание моих друзей, чтобы я написал свои воспоминания, я и взялся за перо. Может быть, это и предупреждение приближающейся старости, а может быть, и непривычка сидеть без определенных занятий. К тому же я давно пришел к убеждению, что единственная реальность, это – прошлое. Настоящего, в сущности, нет; это только грань между прошлым и будущим, точка времени без измерения, почти фикция. А будущего может еще и не быть, а если и будет, то, вероятно, плохим, во всяком случае, хуже, чем доброе прошлое, к которому постоянно влечет память. Этому учит весь опыт жизни. Поэтому то только мне и приятно, что в прошлом, в истории…
Ну, словом, я напрягаю свою память и решаюсь на стариковское дело писания мемуаров. Думаю, что хронологически последовательных воспоминаний мне не написать, тем более, что детство и юность все еще, — да, вероятно, и навсегда, — покрыты слишком болезненными воспоминаниями тех «окаянных дней», которые отделяют от них мою жизнь здесь в изгнании, то есть на свободе. Потому-то я и решаюсь скорее на запись о лицах, встречах и событиях так, как они вспомнились, а не пишу«Книгу бытия моего».
Господи, благослови! Начинаю, а там, что Бог даст.
Первое воспоминание мое о митрополите Антонии, имевшем такое большое значение в моей жизни и так сильно повлиявшем на мое развитие, связано с моими отроческими годами . Моя мать, исключительно набожная и верующая женщина, в годы моей ранней юности постоянно проводила время, свободное от ее семейных обязанностей, в чтении духовных книг, посещении церквей и религиозно-нравственных собраний. Она много встречалась с духовными лицами и церковными деятелями. Летом она из имения нашего ездила то в Оптину, то в Саров, то в Тихонову пустынь (Калужской губернии) или к Тихону Задонскому и Митрофанию Воронежскому. В Петербурге она также любила ходить на богомолье и брала меня с собой: в Казанский собор, в часовню Спасителя в домике Петра Великого, к Скорбящей на Стеклянном заводе и в иные церкви и монастыри.
Однажды матушка взяла меня с собою на Почаевское подворье, куда привезли с Волыни чудотворную икону Богоматери. Из всего этого нашего «паломничества» помню только переполненный народом храм, толпящихся у иконы богомольцев и благословляющего народ архиерея. Он был с сильно русой, почти рыжей бородой. Это и был привезший с Волыни икону архиепископ Антоний. Больше ничего не помню из этого нашего богомолья. Конечно, я и думать тогда не мог, что этот архиерей трижды возложит на мою голову свои святительские руки.
Мать купила там маленькую икону Почаевской Божией Матери и меня ею благословила. Эту икону я имел при себе, когда бежал из Москвы. Ее, при крушении поезда в Добровольческой Армии, у меня украли пленные красноармейцы. Но этим не порвалась моя связь с Волынским архиереем.
Первая настоящая встреча с митрополитом Антонием имела место в Москве в 1918г. во время Всероссийского Собора. После того, как по распоряжению Керенского Императорский Александровский Лицей был закрыт как «инкубатор для будущих превосходительств», как писала революционная пресса, я перевелся в Московский университет. Студентом-юристом я уже сильно интересовался церковными делами, читал богословские книги, бывал на богослужениях патриарха Тихона. Думал даже о поступлении в Московскую Духовную Академию. Я очень интересовался ходом дел на Соборе. У одного из студентов-юристов, беженца из Гродно, священника о. Михаила (фамилию запамятовал) была возможность получать пропуска на заседания Собора. Как-то зимой 1917/1918 гг. несколько студентов-юристов воспользовались любезностью этого священника и отправились на заседание Собора. I
Оно происходило в Епархиальном доме в Лиховом переулке. Не описываю самого заседания: все это уже достаточно известно. Фактически вел все митрополит Новгородский Арсений (Стадницкий) с резким взглядом пронзительных глаз. Патриарх Тихон только скорее «почетно» председательствовал. Помню образы отдельных архиереев: митрополита Кирилла (Смирнова), будущего исповедника за независимость церкви от коммунистического порабощения, митрополита Серафима (Чичагова), митрополита Сергия (Страгородского), впоследствии печальной памяти живоцерковника и потом Местоблюстителя патриаршего престола, архиепископа Анастасия (Грибановского), выделявшегося большой стильностью. Помню видных батюшек: протопресвитера Любимова, о. Хотовицкого, архимандрита (впоследствии архиепископа-исповедника) Илариона, инспектора Московской Духовной Академии, бывших на соборе. Вспоминаю и светских деятелей: известного славянофила Аф. Вас. Васильева, профессоров кн. Е Н Трубецкого, Кузнецова. Почти не могу вспомнить Сергея Николаевича Булгакова, хотя знаю, что мне его показывали.
Это первое заседание, на котором я в качестве гостя присутствовал, касалось острого вопроса «о дележе братской кружки». Были резкие выступления с мест отдельных низших членов клира, были неосторожные слова.
Когда мы уходили после заседания домой, я долго не мог найти в раздевальной мою меховую шапку. Спутники мои меня торопили. Швейцаров осаждали люди с требованиями одежды. Я ждал свою шапку и на повторные зовы моих друзей я нетерпеливо отозвался: «Да вот свой шапо ищу, подождите». В это время на мое плечо легла чья-то рука. Я не обратил внимания, но когда обернулся, то перед собою вдруг увидел широкую седеющую бороду, белый митрополичий клобук и незабываемую улыбку умных, проницательных глаз.
«Вы кто? Гимназистик или офицер?»
«Я? Что?.. Я? Я, нет, я студент».
Митрополит уже был в толпе уходящего народа, а мои спутники меня толкали:
«Да вы что благословения не взяли. Эх вы!..»
Когда на другой день, после лекции проф. Новгородцева я встретил о. Михаила и поблагодарил его еще раз за билет на Собор, мои однокурсники ему рассказали про вчерашний случай с митрополитом. По нашим описаниям батюшка опознал владыку и заметил:
«Ну, знаете ли, это неспроста. Ведь это – Антоний Храповицкий, великий уловитель душ в монашество. Быть вам, коллега, монахом. Это неспроста».
«Кто? Я – монахом? Ну, тоже, батюшка, скажете……»
Все мы рассмеялись.
Еще несколько раз издали видел я на Соборе и во время торжественных служб в московских церквах этого архиерея в белом клобуке и с пронзительным взглядом умных глаз.
Прошло два года.
Я в Екатеринодаре. Иду в английской шинели и бескозырке ординарческого эскадрона по Красной улице. Был воскресный день. В соборе кончалась обедня, народ выходил из храма. Я зашел в церковь. На амвоне стоял в мантии и белом клобуке какой-то архиерей и благословлял последних молящихся. Я как простой солдат подошел, помню, последним и принял благословение владыки. Ласковый голос обратился ко мне с вопросом:
«Вы кто? Гимназистик или офицер?»
Меня пронзил совершенно тот же вопрос, что и на Московском Соборе. Я узнал митрополита Антония.
«Никак нет, Владыко. Я вольноопределяющийся».
Миновало еще два года.
Белград. Русская церковь в зале сербской гимназии. Всенощная отходила. Я, студент белградского юридического факультета, стою у свечного ящика. Староста, милейший Евг. Мих. Киселевский, наклонясь ко мне, просит пойти за извозчиком, чтобы отвезти митрополита Антония, стоявшего в алтаре, но, помню, не служившего.
Когда я, провожая с Евгением Михайловичем митрополита, принимал его благословение у кареты, он посмотрел на меня со своей улыбкой и ласково спросил:
«Вы офицер или гимназист?»
Я был в гимнастерке со споротыми погонами, и по моему виду нельзя было судить о моем общественном положении, но тем не менее меня поразил все тот же вопрос. Потом я узнал, что митрополит вовсе не ко всем молодым людям обращался с таким вопросом.
Настоятель церкви о. Петр Беловидов сказал владыке, что я помогаю ему по церкви.
«А, ну-ну, спасайся, мой милый».
Отец Петр заметил мне:
«Быть вам монахом. Антоний, знаете ли, любит молодежь уловлять в монашество».
Я засмеялся, настолько мне показалось это маловероятным, но не мог не призадуматься над троекратным ко мне обращением владыки все в той же форме.
Приблизительно в это время, т. е. когда беженская волна начала оседать в Белграде и других городах Сербии, митрополит Антоний переехал на более или менее постоянное жительство в Белград, где покойный патриарх Сербский Димитрий предоставил ему помещение в одной из комнат старой Патриархии. Ее, собственно, тогда звали по старой памяти Митрополией. Это было здание времен еще Милоша Великого, покосившееся, уютное и очень казенного вида. Во дворе этого дома находился еще и маленький домишко, вроде старого флигелька, но, кажется, в наше время уже не существовавший, с которым связывались мрачные воспоминания из сербской истории. В этом домишке одно время находилось тело убитого по повелению Милоша Великого героя и вождя первого восстания, знаменитого Карагеоргия, основателя династии Карагеоргиевичей. Предание говорит, что туда в мешке был привезен труп и отдельно голова Черного Георгия.
В этой Митрополии (разрушенной при постройке новой Патриархии в 1931 г.), в левом нижнем коридоре, в последней от входа комнате останавливался и жил долгое время митрополит Антоний со своим знаменитым келейником Федей, тогда еще иеродиаконом Феодосием, а потом иеромонахом и архимандритом. В этой комнате и стал я бывать у владыки, с ним ближе познакомился, а потом стал и постоянным посетителем.
Но до этих постоянных моих визитов к митрополиту я был у него однажды на исповеди. Это вышло довольно неожиданно. Меня привел к владыке один мой коллега по юридическому факультету, которого митрополит знал еще ребенком в России. Эта исповедь была для меня очень знаменательна и памятна. В крестовой церкви Патриархии, на клиросе, в полумраке позднего вечера стоял я перед митрополитом и почувствовал тогда всю замечательную пастырскую мудрость и большой духовнический опыт владыки. То, что впоследствии я книжно узнал из разных руководств по пастырскому богословию и аскетике, да и из сочинений самого митрополита об исповеди, я тогда на деле ощутил в моей исповеди у него. Владыка умел и на деле показать, и дать почувствовать всю силу и глубину пастырской сострадательной любви, о которой он так замечательно писал и проповедовал. Чувствовалось совместное переживание греха не только грешником, но и самим духовником, вся боль стыда о содеянном, все раскаяние, вся непоправимость происшедшего. Без морализирования, без нотаций, без брезгливого отношения к грешнику, а с чувством глубокого сострадания, желания помочь и с умением дать надежду на выздоровление исповедовал митрополит Антоний. Грех для него был не юридическое правонарушение, не факт, не только греховное дело, но, главным образом, болезненное состояние души, тяжелое нравственное потрясение, от которого надо спасти и в котором надо помочь.
Как сейчас вижу рядом с собой в слабом отблеске лампады широкую бороду владыки, в которой так и играла и перебегала милая, ласковая улыбка. Так и вижу блеск острых и умных глаз под огромным широким и высоким лбом. Кроме всего прочего, замечательное, породистое, старо-боярское лицо. Наследие многих веков.
На той исповеди, насколько помню, я не говорил о моем желании быть богословом. Мне надо было кончить юридический факультет, оставалось экзаменов 13-15. Не хотелось бросать раз начатого дела. Но, будучи еще юристом, я принимал все больше и больше участия в обслуживании русской церкви. Сначала в зале гимназии на Негошевой улице, потом в сарае на Старом кладбище, на каковом месте потом и была выстроена русская церковь, я помогал старосте Е. М. Киселевскому в устройстве переносного иконостаса, в хранении и поддержании сначала весьма скромной, а потом и более богатой ризницы, в пономарстве, в чтении. Владыка все чаще и чаще приходил в нашу церковь, иногда просто стоял в алтаре, а иногда и служил. Диаконствовал у него все тот же его келейник, памятный всем беженцам в Белграде иеродиакон Феодосий, некогда послушник Киево-Печерской лавры, старший фейерверкер артиллерии, хохол, с тенорком и совершенно невероятной жесткой черной гривой и бородой. Казалось, что отовсюду росли волосы, разве только из зрачков у него не росла борода. Был он и великий весельчак, выдумщик, хохотун и прекрасный, преданный келейник. О нем еще не раз будет речь впереди.
На извозчике заезжал я в назначенный час в Патриархию, и вместе с митрополитом и Федей отправлялись мы в русскую церковь. И по дороге митрополит что-нибудь рассказывал или отпускал острые и меткие замечания. Потом, изучая историю русской духовной школы и слыша от современников воспоминания о митрополите Антонии, я узнал о той исключительной мощи очарования, которой он обладал и которой он покорял себе без всякого усилия сердца молодых студентов Академии или семинаристов. На эту тему почти нет разногласий; это влияние владыки признают, кажется, все, — и друзья его, и недоброжелатели. Но тогда, совсем молодым и легко воспламеняющимся студентом, падким на всякое влияние, я, конечно, не понимал, а главное, не анализировал этого его всепокоряющего очарования, я просто ему поддался; поддался нацело и без остатка. Очень быстро Антоний стал моим авторитетом, почти кумиром. Я им увлекся, в него влюбился, был им покорен. Я думаю, это же пережили в свое время все те поколения семинаристов и студентов, которые имели радость учиться под началом митрополита, которые им были спасены от угара революции, от пресноты безверия, от бесплодности рационализма; были — немало среди них — привлечены, чтобы не сказать увлечены в монашество и потом составили целое поколение русского ученого иночества и епископата. Я не миновал общей участи тех молодых богословов, которые встречались и беседовали с Антонием. В чем секрет этого очарования, скажу потом. Попытаюсь, во всяком случае, разгадать, в чем был этот секрет для меня лично, т. е. что дал митрополит Антоний лично для меня. Но «о том – потом», после того, как я скажу о нем побольше, вспомню факты, встречи, слова и долгие с ним беседы.
Итак стало быть, я всецело увлекся этим замечательным и по внешности, а главное, по духу архиереем. В самом деле, внешность. Среднего роста, в те годы уже несколько грузный. Большая, очень большая голова; кажется 64 или 65 сантиметров; умные, острые, иногда, в минуты раздражения, неприятные глаза. Окладистая, почти уже седая борода; казалось, что где-то в ней играет улыбка. Ни бороду, ни волосы никогда не стриг и с презрением относился к тем священникам или архиереям, которые укорачивали свою растительность. Руки породистые и не пухлые, как у многих ожиревших архиереев. От всей головы оставалось сильное впечатление. Это было характерное, выразительное лицо. В глазах, прежде всего, горел ум и вот это-то неопределимое «антониевское» очарование. Как-то в Париже один француз, любитель искусства, увидел у меня фотографию митрополита Антония, без клобука, за письменным столом, и совершенно восторженно воскликнул: «qelle superbe tete!» [какая восхительная голова!]
Ряса на нем сидела совершенно естественно. Он носил рясы русского покроя, но, съездив в Палестину, оттуда привез греческую, которую он гораздо больше любил и ценил, чем русскую (о филэллинстве митрополита скажу потом). На рясе чаще всего носил круглую панагию с изображением Богоматери и с уральскими камнями, подарок его друга митрополита Сергия (Страгородского), с надписью на обороте: «Дорогому учителю и другу. Матф. XXV, 8», т. е. слова юродивых дев мудрым: «Дайте нам от елея вашего; светильники наши угасают».
Иногда он носил другую панагию, благословение ему епископа Михаила (Грибановского) на его смертном одре. Это была икона Спасителя, очень неиконописного стиля, со многими камешками вокруг и с надписью на обороте: «Панагию имели митр. Палладий, митр. Антоний (Вадковский), еп. Михаил, еп. Антоний (Храповицкий)».
В торжественных случаях и во время богослужений митрополит возлагал на себя и голубой эмалевый докторский крест.
Но чаще как-то и привычнее вспомнить мне владыку в подряснике, подпоясанного неизменным ременным поясом (вышитых распоясов он терпеть не мог). В петлице укреплена золотая цепочка от часов, которые он носил в боковом кармане, а ручных браслетов-часов не носил. Таков митрополит за письменным столом, разбиравший утреннюю почту, отвечавший на письмо или читавший какую-нибудь книгу. Таков же и за чайным столом. Почти никогда его не помню одного. Обыкновенно кроме него и Феди сидели студенты богословского факультета или приезжие священники, реже просители; почти никогда не были за его чайным столом дамы. Женский пол владыка не жаловал, отзывался о нем почти всегда недоброжелательно, иногда даже и резко.
Вокруг самовара за столом владыки так и вижу группу молодых студентов, с увлечением с ним беседующих, внимательно слушающих, задающих вопросы на темы богословские, церковные, аскетико-пастырские. Рассказы митрополита о прошлом, главным образом, об Академиях, профессорах или духовных лицах всегда были интересны, красочны; характеристики метки, иногда резки, особенно если данное лицо не пользовалось расположением святителя. Богословские и канонические разъяснения были очень просты, авторитетны и обнаруживали большую ясность ума. С ними можно было не соглашаться (что потом я очень осознал, когда более критически сам изучил многое), но они всегда были необычайно ясны и прямы. Никаких «постольку — поскольку», «как бы», «как-то» и т. д. у него не было. Он не задумывался долго, объясняя что-нибудь. Но особенно ясен он был в объяснении Св. Писания. Порою слишком ясен, слишком даже примитивен, но чувствовалось, что он это для себя знает и в этом уверен. Чувства проблематики у него не было. Но больше всего поражал он знанием текста, как Нового, так и Ветхого Завета. Казалось мне, и теперь еще кажется, что ему не были нужны симфонии и конкордансы Священного Писания. Самые малоизвестные тексты он без труда находил, а зачастую и просто, не глядя в Библию, называл главу и стих пророчества, псалма или послания. Начитанность в Писании (равно как в канонах и церковном уставе) была у него поражающая. Но потом-то я прекрасно понял, что «учености», знания библиографии вопроса у него не было. Он, отойдя от Академии, быстро отстал и от науки. Это между прочим говорил про него и замученный в ссылке архимандрит Иларион (Троицкий), профессор Нового Завета Московской Духовной Академии.
Впоследствии я много слышал от бывших учеников, постриженников и сотрудников митрополита о знаменитых сборищах всей академической молодежи в ректорских покоях Московской и Казанской академий, приглашенной им «хлебать варенье», присланное заботливой его матерью из новгородской вотчины Ватагино, или о не менее знаменитых «чаях в подрясниках» на Волыни, в Почаеве, когда на летние каникулы съезжались к архиепископу Антонию студенты (между ними и немало разных пострадавших, уволенных из академий или семинарий), молодые монахи, да и старые епископы – съезжались к своему Великому Авве пожить, посоветоваться, побеседовать, погреться у этого великого любвеобильного сердца, озариться лучами его острого ума. Тут-то, на этих чаепитиях, укреплялась вера одних, зрело желание монашеского подвига других, решались недоуменные вопросы духовной жизни, зарождались темы магистерских диссертаций. И я, отлично это помню, считал себя тогда и продолжаю считать себя счастливым и по сей день, что и я был участником этих «чаепитий», – правда, не в Казани, не в Троицкой Лавре и не на Волыни, а только в скудной беженской обстановке нищего митрополита, – но зато для меня таких богатых по своему содержанию. Многое потом в моей жизни изменилось: повзрослев, я многое из слышанного от Антония передумал, пересмотрел, критически оценил и переоценил, но самого духа этих бесед мне никогда не забыть. Самый «даймон» [следует понимать «самый дух»] этих духовных «симпосионов» навсегда закрепил в моем сердце благодарную память о «Великом Авве». Да! И он во многом ошибался. Но кто же не ошибался?.. Всякому приходящему студенту уделялось столько внимания от этого старца, сколько другой архиерей или профессор не уделил бы и чиновному, высокопоставленному и знаменитому человеку. Митрополит сразу же заинтересовывался всяким студентом. Он искренне любил молодежь, верил в нее и верил ей. Искреннему молодому сердцу прощались заблуждения беспутной юности. Молодой, робеющий студент как-то незаметно становился на близкую к митрополиту линию, не побоюсь сказать, духовной дружбы. Может быть, даже не всегда для данного молодого человека и полезную линию.
Все сразу же назывались по уменьшительным именам: Сережа, Миша, Ваня. Никаких имен-отчеств, никакой официальности. Иногда давалось и прозвище. Так, очень быстро владыка стал меня называть «Кернушка», что в известном кругу сохранилось надолго.
У Владыки всегда толпился народ. Он сам любил говорить, что его келия – караван-сарай. Это было очень уютно, но, конечно, не создавало серьезной обстановки ректора, или, тем менее, западного чиновного прелата. Времени у него было мало; оно уходило по мелочам. Кто был в этом виноват? Конечно, сам же Антоний с его отвращением к формализму, законничеству и официальности. Он же, конечно, был виной и того легкого отношения к священному сану, к авторитету, к иерархической подчиненности. Он сам незаметно портил своей неофициальностью своих молодых друзей. У людей маловоспитанных это создавало потом некое «амикошонство».
У чайного стола несколько молодых студентов, зашедший по делам настоятель русской церкви или какой-нибудь приезжий с сербского прихода батюшка.
«Федя, есть там какое-нибудь варенье?»
«Сережа, почему ты такой задумчивый? Может быть, ты влюбился?»
Яркая краска заливает лицо бедного Сережи:
«Нет… Ну что вы, владыко…Я нет, вообще, нет».
«Ну, выскажи какую-нибудь блестящую идею».
«У меня нет никакой блестящей идеи, владыко…»
«Нет идеи? Ну, это печально».
«А почему у тебя грязные руки и нечесаные волосы, отец С..? Ты, может быть, хочешь быть таким образом более аскетически настроенным? Ты, вероятно, хочешь спастись во что бы то ни стало?..»
Общий смех.
«Скажи, Миша, что вам читают по Новому Завету? Вероятно, какую-нибудь тюбингенскую ерунду или залежавшиеся теории о неподлинности того или иного послания? А какая главная мысль Четвертого Евангелия?»
И начинается интересная беседа о евангельском тексте, о несостоятельности какой-нибудь протестантской гипотезы. По дороге попадает Сергею Николаевичу Трубецкому за его «учение о Логосе». Все это впитывается молодыми умами. Мы дивимся мудрости и ясности (теперь вижу, слишком уж большой ясности) митрополита в понимании евангельского текста. Тогда это казалось вершиной богословской премудрости. И слава Богу за эти первые уроки богословского назидания.
Очень часто он говорил о русской литературе, которую знал хорошо, особенно, как известно, высоко ставил Достоевского. Его лично он видел только один раз в жизни, почему неоднократно опровергал откуда-то появившееся мнение о том, что он, Антоний, послужил Достоевскому прототипом для Алеши Карамазова.
Декламировал, и именно по-старинному, с декламацией. Сам помню, как он однажды очень хорошо при мне (мы были одни) прочел «Я вас любил, любовь еще, быть может…» Толстого, конечно, отрицал, как публициста, резонера и философа. Ценил его художественный талант, но не прощал ему всего позднейшего его писания. Антоний был так целен и монолитен, что он целиком — или преклонялся, или отметал. Главное, конечно, для него был Достоевский. Помню даже такое замечание: «Прежде всего Библия, потом церковный устав, а на третьем месте Достоевский».
Я тогда был уже посмелее и, помню, спросил:
«Ну, а где же, владыко, святые отцы?»
Митрополит умно посмотрел и по-своему, незабываемо улыбнулся.
Я ходил тогда в каком-то фантастическом наряде. Европейского штатского платья я никогда не любил, да и не по беженскому карману было себе его шить. Носил я длинную косоворотку, высокие сапоги (всегда хорошо сшитые); отпустил какую-то гаденькую бороденку. Теперь стыдно и вспомнить. Вхожу как-то к митрополиту.
«А, Кернушка. У тебя совсем славянофильский вид. Православие – самодержавие – народность. Ну-ну, спасайся. Садись. Чаю хочешь?»
«Нет, спасибо, я уже пил».
«Ты, вероятно, предаешься неумеренному аскетизму? А? Ты знаешь, что это запрещается каноническими правилами Гангрского собора?»
«Нет, какой там аскетизм».
«Ну, расскажи, милый, какой-нибудь случай из твоей автобиографии».
Краснею, смущаюсь, особливо, если в келии кто-либо посторонний.
«Что ты читаешь теперь?»
«Владыко, много и без системы и, кажется, без толку. Вот сейчас я читал книгу св. Василия Великого «О Святом Духе». А кроме того, Филарета «Отцов Церкви» и Харнака.
За Харнака неодобрительный взгляд умных глаз, но, впрочем, сейчас же добавлялось, что читать надо все, знать надо и противника, и ничего не страшно для православного церковного сознания.
«Владыка, а вот теософы говорят, что…»
Следовал умный, неожиданный и уничтожающий довод против теософии и оккультизма. Все это он ведь не из учебников вычитал, ибо именно эти простые и ясные доводы в учебниках не пишут, а от своего ясного и острого ума. От знания назубок текста Библии, но от знания не начетнического только, а очень продуманного.
Сам я, не принадлежа ни к духовному сословию, ни к нашей русской семинарской и академической науке, очень тем не менее рано заинтересовался русской богословской школой и нашей духовной наукой. С первых дней моего студенчества на богословском факультете я читал с увлечением имевшиеся налицо номера старых богословских академических журналов, а главным образом – протоколы заседаний Совета Академии, с рецензиями профессоров на академические диссертации, протоколы магистерских диспутов и т. д. Меня всегда привлекала эта сторона жизни школы, эта лаборатория мысли и весь процесс создания научной книги, ее обработка, ее критика, рецензирование ее и все постепенное и упорное воспитание научного творчества. В детстве я с интересом слушал рассказы о разных академических диспутах. Меня привлекал этот мир фолиантов, диссертаций, рецензий и т. п. Поэтому и от митрополита Антония, ректора двух наших академий и яркого представителя нашего умного и ученого епископата, я хотел узнать побольше об этом мире. И владыка давал в этом отношении много, но как всегда по-антониевски, т. е. прямолинейно, цельно, совсем не широко и, как потом я понял, очень академически односторонне. Но надо сказать, — ярко, умно, всегда своеобразно, всегда оригинально.
Нельзя ведь забывать всей заслуги митрополита Антония перед русской духовной школой, не забывая, конечно, и весь вред, им нанесенный в известную минуту истории нашей школы. Не надо быть его панегиристом. Но значения его тоже нельзя зачеркивать. Антоний – это эпоха в истории.
«Да, да, мой милый Кернушка, сколько вам лет?»
«Да вот 23, владыко святый».
«Вы на каком курсе?»
«Да вот только что кончил юридический, и теперь я на первом курсе богословского факультета».
«Значит, вы кончите богословский факультет в 27 лет, не правда ли?»
«Да, владыко, выходит так».
«Ну, а я вот в 28 лет был уже архимандритом и ректором Московской Академии».
Я тогда изумлялся, восхищался. Только подумать: 28 лет и ректор Академии! А теперь я вижу всю неправильность этого, неправильность с точки зрения академической иерархичности и просто педагогического опыта. Молодой, очень талантливый инок, блестящий лектор, вдохновенный, образованный Антоний Храповицкий поставлен начальствовать над заслуженными Муретовыми, Лебедевыми, Голубинскими, Ключевскими и многими другими.
Антоний именно и представляет этот типичный для русской культуры контраст. Образованный и блестящий человек, с убеждением и свежей верой и уверенностью примат Церкви и церковности над всем, получает всю полноту власти над старой школой с ее традициями, с ее тенями Филаретов, Делицына, Казанского и Голубинского. С одной стороны, он вносит новую веру в вечно живую силу Церкви, в обновляющую мощь благодати. Вносит новый протестующий порыв против всякой схоластики, против Макария Булгакова, против рационализирующего протестантизма и латинизма старой бурсы. Вносит струю новой жизни, струю возврата к святым отцам, к литургическому богословию, к церковной традиции. Зовет юношество, с доверием к нему тянущееся, к иноческому подвигу, к научной работе над святыми отцами, над библейским текстом. Зовет это юношество отрешиться от всей этой уже приевшейся, пресной и прогорклой отравы рационализма, позитивизма, писаревщины, добролюбовщины. Зовет искать интерес и смысл жизни в христианстве святых отцов, богослужении, монастырской жизни, в исповеди и старчестве. Принимает выгнанного за революцию и безверие семинариста и студента, принимает с широко раскрытыми отеческими объятиями, вселяет в это бунтующее и уже разочарованное сердце веру в самого себя, веру в Бога, веру в подлинность христианства. С верой в возможность спасения каждого человека, даже самого грешного, совсем как у Достоевского, он отогревает этого юношу, сострадает с ним его грехами, сомнениями и падениями, возрождает его через исповедь и причастие, приводит к иночеству, к пастырству, к служению для спасения других, таких же падших и малодушных. Он именно умеет показать, что не Писарев, и не Дарвин, и не Ренан, и не Толстой сказали что-то новое, что уже давно якобы прогоркло в христианстве, а что именно отцы Церкви, типикон нашего богослужения, опыт наших монастырей, красота наших праздников, все это и только это – новое и единственно живое и жизненное, а все другое тлен.
И вот этот Антоний, молодой 28-летний архимандрит, ректор Московской Академии, 33-летний епископ – ректор другой Академии, Казанской, молодой, ревностный, в смысле церковном почти радикальный архиепископ Волынский, ревнитель патриаршества, свободы Церкви и ее свободного канонического устроения, талантливый проповедник против Толстого, против Ренана, против латинской унии, этот Антоний, постригший свыше семидесяти русских ученых иноков, ректоров семинарий и епископов, этот же Антоний, не признающий никакого исторического подхода в науке, враг всякой критики текста и сравнительного анализа, этот же Антоний проваливает в Синоде талантливые магистерские диссертации, производит вместе с архиепископом Димитрием ревизию и разгром наших четырех Академий. Этот же Антоний, ревнующий о патриаршестве, о независимости Церкви от государства, мечтающий о Никоне и о Фотии, этот же Антоний окружает себя самыми мрачными типами из Союза русского народа, солидаризируется с Русским собранием, поддерживает на Волыни совершенно неприличное движение псевдо-патриотизма. Архиепископу Антонию на Волыни за защиту еврейского населения от погрома местная синагога поднесла свиток торы, что очень льстило ему, так как Антоний очень любил все библейско-еврейское, все ветхозаветное; и он же принципиально боролся с прогрессивной профессурой, публично оскорблял в своих выступлениях либеральных мыслителей, на сборник «Вехи» ответил в сущности политическим требованием. Таков Антоний, весь противоречие, весь непоследовательность. И несмотря ни на что, прекрасный, неповторимый, яркий.
В своих суждениях и оценках богословских книг и наших ученых Антония можно было бы характеризовать как догматиста и моралиста, вопреки всякому историзму и мистике. Все, что было догматически ясно на постановлениях соборов основано, и все, что вытекало с несомненностью из библейского текста, все, что имело нравственное применение (например, его знаменитое нравственное обоснование основных догматов православия), все это было ему близко, все это он восхвалял и поддерживал. И наоборот: все историческое, все критическое, все основанное на точном и кропотливом исследовании, или что основывалось на мистической интуиции, на внутреннем восприятии, — все это подвергалось осуждению и неприятию. Мистика и хлыстовство -это были синонимы; научная критика текста, филологический анализ, сравнительная хронология событий, — все это уже квалифицировалось как тюбингенщина, как харнаковщина, как ренановщина. Скреплялось к тому же и крепким словцом, на которые владыка был весьма щедр.
Так и русских профессоров и писателей он квалифицировал. Любил Голубинского, особенно любил Кудрявцева-Платонова, Карийского, Карпова, как мыслителей; из наших новозаветников предпочитал архимандрита Илариона, Феофана Затворника, меньше чтил Муретова, почтительно помалкивал о Глубоковском, но не одобрял. Историков почти огулом не принимал, а особенно не жаловал Голубинского (Евгения Евстигнеевича), Лебедева и Субботина. При этом любил подчеркнуть скандальные подробности из отношений Лебедева и Глубоковского (известно, что Глубоковский отбил жену Лебедева).
Относился осторожно, скорее даже с недоверием к о. Павлу Флоренскому, равно как и ко всему направлению вольного богословия религиозных собраний и обществ. Говорят, что как рецензирующий член Синода, он на «Столп и утверждение истины» написал такую рецензию: «Читал 14 дней, прочитал 14 страниц, ничего не понял, но думаю, что степень магистра утвердить можно».
Нечего и говорить, что к Мережковскому и Розанову относился отрицательно. Иронизировал и над Влад. Соловьевым, что тогда меня необычайно огорчало и уязвляло. Гораздо выше он ценил Кудрявцева-Платонова, чем Соловьева. Тогда я этого не понимал.
К Богословскому институту его отношение двоилось. С одной стороны, высоко ценил благочестие, уставность, церковность Сергиевского подворья, но с другой стороны, не одобрял многого в богословско-научном отношении. К о. Сергию Булгакову, конечно, он относился более чем сдержанно. Любил лично и даже с некоторой нежностью С. С. Безобразова (епископа Катанского Кассиана). Очень высоко ценил и считал одним из самых умных проф. В. В. Зеньковского.
В общем же его научные интересы ограничивались областью истолкования библейского текста, но отнюдь не вводных сведений, не исагогики, которую он явно осуждал как немецкое изобретение. Любил догматику, но свободную от Макариевско-Филаретовской схоластики. В догматах, как известно, искал их нравственный смысл.
Таким вот и был митрополит Антоний в истории русской богословской школы: освободителем от мертвящей схоластики Макария и Филарета, насадителем святоотеческого духа, проводником аскетического идеала среди молодежи, вдохновителем уставного богослужения, обиходного пения, иконописи по старым, нарочито византийским образцам. Веря в легкое и быстрое нравственное возрождение грешника и заблуждающегося молодого ума, он был покровителем гонимых из семинарий и разных неудачников. Его семинария на Волыни была одно время просто прибежищем всяких изгнанников. Формализм и официальность были ему онтологически чужды. Он искал дружбы с молодежью и без всякого усилия и навязывания достигал ее. Даже недруги его признавали его непререкаемый нравственный и педагогический дар покорять себе. Откуда и многочисленная рать иноков, постриженников «Великого Аввы». Правда, были среди них и неудачники, скороспелые монахи, быстро в монашестве разочаровавшиеся; и немало было и расстриг среди них. Его популярность среди молодежи создала ему, конечно, и недругов на верхах. Как только в Москву был переведен на место митрополита Леонтия бывший викарий Филарета митр. Сергий (Ляпидевский), он его быстро перевел в Казань. Это была, конечно, опала. И знали, что это было за антониевский «либерализм». Это Антоний-то либерал!? Вот уж никогда ни политическим, ни церковным либералом он не был и не мог быть. Невзлюбил и Антоний сухого педанта митрополита Сергия и говаривал, что, если ему когда и снятся кошмары, то это только Сергий Ляпидевский. В своих очень интересных «Автобиографических заметках» архиепископ Тверской Савва (Тихомиров) пишет о том, какое неприятное впечатление произвел этот неожиданный перевод молодого, но уже прославленного ректора архимандрита Антония из Москвы в Казань. Так, в одном из своих писем (А. В. Гаврилову) архиепископ Савва замечает: «…Мне думается, что перевод Ректора Московской Духовной Академии едва ли служит для него знамением во благо; а также и пересаждение почтенного старца ректора Казанской Академии (разумеется прот. Владимирский) с ученой кафедры в кресло члена Учебного Комитета едва ли можно почитать достойным воздаянием за его почти полувековое служение духовному просвещению. Дивные дела совершаются во очию нашею… »
30 июля 1895 г. Московская Академия прощалась со своим молодым, но уже стяжавшим любовь одних и, конечно, неприязнь других ректором. Поднесли икону апостола Иоанна Богослова, говорили речи, о. Антоний трижды отвечал. А на следующий день он был с прощальным визитом у митрополита Сергия. Митрополит сказал: «Я Вас люблю и уважаю; но мы с Вами не сошлись. Вы – человек новшеств и кипучей деятельности, а я – ретроград; Вы преисполнены любви, а я – человек строгой законности. Для Московской Академии Вы не годитесь, а в Казани будете полезны». Так сказав, Владыка расцеловался с ним на прощанье. 31 июля архимандрит Антоний отбыл в Казань.
Я не ошибусь, если скажу, что время пребывания архимандрита Антония во главе двух наших Академий было эпохой в истории русской духовной школы. Наши Академии, как и все вообще школы, знали такие эпохи, которые и вошли в историю их под именами их руководителей. Так, Московская Академия знала свою эпоху Филарета, эпоху Горского, Киевская – свой Иннокентиевский период, в Петербургской был свой Янышевский период, Казанская долго жила под ректорством знаменитого «папаши» о. А. П. Владимирского, создавшего тоже для Казани свою эпоху. Точно так же и Антоний оставил свой «антониевский» период в истории двух наших Академий.
Следует вспомнить самое появление Антония в Москве. Обращаюсь к воспоминаниям старых воспитанников Московской Академии. Был назначен в Московскую Академию инспектором некий архимандрит Антоний (Каржавин), впоследствии архиепископ Тверской, скончавшийся 16 марта 1914 года. Он был знаменит по двум обстоятельствам. Прежде всего тем, что в магистерской диссертации он обнаружил двух философов: Декарта и Картезия, причем в системах их он нашел не только близкое сходство, но и значительное различие (!). Кроме того, он, мрачный и нелюдимый формалист, решил Московскую Академию «прикрутить»: завел выходные отпускные билеты для студентов, относился к ним с недоверием, придирался и любил уменьшать балл по поведению даже и примерным студентам – просто ради предупреждения, за «тихую предусмотрительность». Его инспекторство окончилось мрачно. Он, после своего назначения ректором в какую-то семинарию, должен был чуть ли не ночью покинуть Сергиев Посад. Его заменил архимандрит Петр, ничем не замечательный. Но вот ректором Академии был назначен тогда молодой архимандрит Антоний (Храповицкий), который сразу же переменил весь климат в Академии. Он немедленно же покорил все студенческое племя своей образованностью, умом, любовью к уставному богослужению, красноречием, знанием литературы и светской (в хорошем смысле) культурой. Воздвигнутая Антонием Каржавиным стена и дух формализма и недоверия исчезли совершенно. Академия вздохнула, почуяв что-то небывалое, что-то весеннее и оживляющее. Отпускные билеты были забыты. Ректор Антоний оказался полной противоположностью инспектору Антонию. Стал зазывать к себе студентов на чай, на откровенные беседы, создал атмосферу полного доверия и радушия. Он сам верил в силу возрождающей пастырской любви и воздействовал этим именно авторитетом любви на мятущееся и сбиваемое с толку студенчество. В Академии сразу же воцарилась любовь к церковному уставу, к богослужению, и не тупо-уставщически, а разумно и осмысленно совершаемому. Вдохновенные проповеди на евангельские и преимущественно нравственные темы оживили стены старых елисаветинских «чертогов», в которых помещалась Академия и где веял дух казенного благочестия и схоластического богословия. Академический стихоплет увековечил эти ново-антониевские годы такими виршами:
«Но вот теперь явился другой у нас Антон,
Билеты ограничил и отменил закон.
Зато речами, службой он научит нас любя,
У всякого Антона фантазия своя».
О ректорстве и профессорстве архимандрита Антония вспоминает старый московский студент (протопресвитер Т. Теодорович:( «Лекции ректора по пастырству горели таким внутренним огнем подвига, таким горячим призывом служить Христу и Церкви, что влияние их незабываемо. Многое было нам прощено, потому что надлежаще понято, исправлено и никому из студентов не была испорчена жизнь. Какой-то взаимный огонь тепла смягчил и наши студенческие отношения».
И вот, когда обвиненный в «либерализме» Антоний был сухим формалистом митрополитом Сергием Ляпидевским переведен в Казань, то и для самой молодой из наших Академий настал после длительного периода «папаши Владимирского» свой не менее знаменитый период Антониевский. Архимандрит Антоний принял это как церковное послушание и поехал насаждать тот же дух доверия к молодежи, сострадательной любви и монашеского подвига в пределы заволжские. На пароходе в Казань писал он тому же своему бывшему питомцу по Москве (о. Теодоровичу:( «Еду снова возиться с мятежным, но милым студенчеством».
И уехав в изгнание, он не перестал собирать около себя молодежь, преимущественно, конечно, студентов-богословов. Мы стали у него бывать и встречались постоянно с ним на богослужениях в русской церкви, да и он не раз приезжал в наш студенческий кружок, в дом семьи Зерновых. Он много потом вспоминал эту поездку к нам, видно было, что он искренне радовался быть среди молодых людей, охотно отвечал на наши вопросы, оживленно с нами беседовал, покорил многих, если не всех. И долго потом он сохранил почти со всеми посетителями этого кружка добрые отеческие отношения. Это все, естественно, ослабело, когда кружок видоизменился, примкнул к так называемому Студенческому Движению, которому митрополит явно не сочувствовал. Правда, много сделало непоправимого церковное расхождение его с митрополитом Евлогием.
Митрополит Антоний был очень остроумным человеком. Его острый ум и еще более острый язык находил немедленно верные, меткие характеристики, прозвища и оценки. Богатый жизненный опыт и интересная жизнь дали ему ценный запас воспоминаний. Слушать его было одно удовольствие. Зачастую его язык не щадил ни лиц, ни их положения, ни высокого иерархического сана. Целостные подробности нередко сообщались о том или ином профессоре или архиерее (думаю, что очень часто необоснованно и зря) и, к сожалению, воспринимались пытливыми умами молодых людей, которые к этому привыкали, и сами, глядя на Антония, позволяли себе его остроты, присказки и определения.
С острословием митрополита Антония связано и его, вошедшее в предание о нем, сквернословие, его скабрезные анекдоты, которыми его недоброжелатели всегда попрекали. Прежде всего, должен заметить, что митрополит далеко не со всяким позволял себе развязывать язык в этом направлении. Я лично почти не помню, чтобы в моем присутствии владыка рассказывал такие анекдоты. Если же это и имело место, то никак не было свидетельством его испорченности, извращенности и нечистоты его ума вообще. Митрополит был очень чистым человеком, терпеть не мог развратников, строго осуждал сластолюбцев, женолюбов, винопийц и проч. А его знаменитые словечки были скорее присущим русскому человеку свободным обращением со словами и выражениями, чем свидетельством его испорченности. Это было все на кончике языка, а не исходило из глубины сердца. Правда, всем известно, что он мог про любовь к сладкому, к шоколаду или варенью сказать «сладострастие», а про подметание пола выразиться, что это разрешение «полового вопроса» и т. д. Совершенно так же он плохое знание проповедником Слова Божия мог определить так, что у этого лица «слово Божие не вяжется», переиначивая смысл славянского текста из 2-го Послания к Тимофею 2, 9; или сострить, что Тула – единственный город России, который упоминается в Библии, потому что в псалме 10-м сказано «уготоваша стрелы в туле (то есть в колчане) состреляти во мраце»; так же и славянское слово «понос» – гордость – употребить в его русском обыденном значении расстройства желудка.