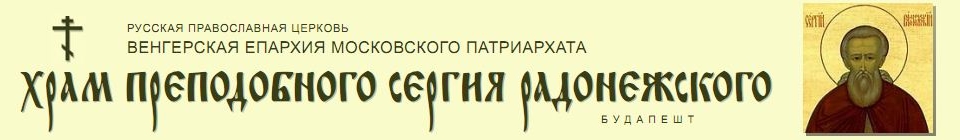ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА
ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ
СЛОВО НАСТОЯТЕЛЯ
ХРИСТИАНСТВО
В ВЕНГРИИ
СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ
ХРИСТИАНСКИЕ ПРАВЕДНИКИ
ВСЕХ ИХ СОЗДАЛ БОГ
ЖИЗНЬ В ЦЕРКВИ
НАШЕ ПРОШЛОЕ
И НАСТОЯЩЕЕ
О ПРИХОДЕ
РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
ЦЕРКОВНАЯ БИБЛИОТЕКА
ДУХОВЕНСТВО ХРАМА
СТРАНИЦА РЕГЕНТА
ЦЕРКОВЬ
И ГОСУДАРСТВО
ВОСПОМИНАНИЯ
И ДНЕВНИКИ
НАШИ РЕКВИЗИТЫ
СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
СОВЕТЫ ВРАЧА
ПЛАН ПРОЕЗДА
ФОТО
ССЫЛКИ
ГАЛЕРЕИ
КОНТАКТЫ
Тимур Кибиров: «Я просто не вижу смысла писать иначе»
Дон Кихот живет в душе каждого. Просто не у каждого хватает смелости показать его окружающим людям. А с теми, у кого это получается, случается чудо - стремление найти истину в сочетании с талантом неминуемо преображает мир. О многогранном таланте Дон Кихота современности читайте в интервью с Тимуром Кибировым.
Артикль «тхе»
Гальперина Анна: Тимур Юрьевич, расскажите сначала немного о себе…
Кибиров Тимур:
Вы знаете, я не большой говорун, поэтому вы спрашивайте конкретно: кто папа, кто мама…
Г.А.:
И кто папа, кто мама?
К.Т.:
Папа – офицер, теперь он в отставке. С этим связано то, что все мое детство и начало юности мы ездили по самым разным уголкам Советского Союза, за что я отчасти благодарен судьбе – вряд ли мне когда-то еще удастся пожить на Крайнем Севере в поселке Тикси. А мама – учительница биологии и ботаники.
Г.А.:
Вы были один в семье?
К.Т.:
Нет, у меня две сестренки – одна старшая, другая сильно младшая. Старшая сестра имела на меня в детстве большое влияние, я ее очень любил и старался ей во всем подражать. Поэтому я читал те книги, которые читала она, то есть немножко опережая своих сверстников.
Г.А.:
Какая у вас была атмосфера в семье?
К.Т.:
Думаю, что хорошая. У нас была, да и есть, хорошая семья, даже для того времени старомодная, чуть более патриархальная, чем обычные советские семьи. Связано это с тем, что родители были все-таки с Кавказа: и мама, и папа – осетины. Поэтому некоторые вещи, которые для средней советской семьи считались дозволенными, у нас таковыми не были. Например, я никогда не слышал, чтобы отец при нас или при матери матерился, хотя я понимаю, что он был офицером и слова эти знал. А так… Наша жизнь – это было такое полудеревенское житье по маленьким поселкам. Там много было всякого плохого – общесоветского, армейского, но много было и хорошего: соблазнов для детей было меньше, а еще были всесельские удовольствия – лес, тундра, речка, озеро.
Г.А.:
А что было плохого?
К.Т.:
Что было плохого? Думаю, плохо было везде. Плохое было образование, уверен в этом, несмотря на все мифы о великой советской школе.
Г.А.:
Вы думаете, что она не великая?
К.Т.:
Она, может быть, и получше, чем то, что сейчас пытаются созидать – совсем дикое, но в общем-то то, что я толком не знаю никаких иностранных языков, я связываю с этим. Понятно, что в Москве, в Питере, в Новосибирске, Свердловске были чудесные школы, о которых я не знаю. Но то, что моя первая учительница английского языка – и это не анекдот – определенный артикль произносила как «тхе», знаю.
Г.А.:
Как вы учились?
К.Т.:
Учился я плохо. Сейчас страшно жалею, что какие-то точные науки – физика, химия – сейчас совсем не знаю, я бы с удовольствием это все изучал. Боюсь, что поздно. Я просто-напросто был балбесом, но с 13-14 лет пошла поэзия, я начал писать.
Г.А.:
Почему именно в это время? Помните, как это произошло?
К.Т.:
Я думаю, это связано с гормональными изменениями, в первую очередь. Я твердо уверен, плохо это или хорошо, что поэзия связана с полом, с обращением к противоположному полу. Связь, может быть, самая сложная, самая опосредованная, но то, что некий первоначальный импульс связан именно с этим – безусловно. Кроме того, тогда я прочитал на каникулах Александра Блока, совершенно ничего не понял, но был настолько заворожен, что… Ну в общем понеслось. Почти десять лет Блок был моим абсолютным кумиром. Потом, естественно, маятник качнулся в другую сторону, и только сейчас я избавляюсь от избыточного раздражения по поводу Блока и всего Серебряного века.
Затем заканчивается школа, надо куда-то поступать. И не потому, что хочется учится, а потому, что к тому времени, несмотря на совершенно декадентское сознание типа «пускай я умру под забором как пес», в армию не хочется. Даже больше не хочется, чем другим, тем, кто о ней знает меньше. Поэтому я стал решать, куда можно поступить без всяких знаний. Решил, что в пединститут – потому что туда примут только за то, что я молодой человек. Так и получилось. Я поступил в Московский областной педагогический институт. Но поскольку я решил, что таким образом свою программу выполнил, то не только пренебрегал какими-то занятиями, но и вообще в институт не ходил. Поразительно, что мой несчастный деканат терпел это два с половиной года, но потом меня все-таки выгнали, и в армию я пошел. И хотя я никому этого не пожелаю, лично мне это было на пользу.
Г.
А.: Почему?
К.Т.:
Потому что я к тому времени, со всеми своими стишками и бездельем, и таким добросовестным мальчишеским развратом, запросто мог стать обыкновенным ничтожеством и мерзавцем. А в армии я впервые столкнулся с жизнью – без всяких прикрас. И понял, что сам из себя ничего не представляю – ни удивительного, ни ценного, – поскольку все то, чем я гордился – мол, читал и то, и се, и венки сонетов пишу – оказалось ненужным, и стало ясно, что в реальных ситуациях я веду себя, может, и не хуже, но нисколько не лучше, чем остальные ребята, украинские пэтэушники, которые со мной служат.
Г.А.:
А какие ситуации?
К.Т.:
Ну какие? Армейские ситуации. Когда решаешь, заступиться за того, кого обижают, или не заступиться, заступиться за себя, когда деды шугают, или не заступиться. В общем я понял, что ничем я не отличаюсь от других – никакой высоты духа, ничего. А при этом понятно, что с этих ребят спрашивать нечего – их никто хорошему не учил, а я-то книжки читал и вроде должен вести себя иначе, а не веду. И спесь была с меня сильно сбита, и это было хорошо. В моем случае.
Г.А.:
А когда вы сами стали «дедом»?
К.Т.:
Это было самое страшное. Я, конечно, никого сильно не мучил, но и против этой системы не выступал. Я пытался иногда кого-то освободить от работы, но встать по подъему и уйти не заправив койку, потому что заправят, как делали все «деды», я мог не задумываясь. И потом вспоминал об этом с совершенным ужасом.
После, когда я отслужил, я долго думал, поступать ли в какое-то более солидное заведение, мечтал о филфаке МГУ, но потом подумал, что надо же готовиться, учить что-то. И я восстановился, и понеслось все по новой. В общем закончил уже на заочном.
Г.А.:
То есть отчисление и армия вас ничему не научили?
К.Т.:
Ничему не научили. И вообще, минимальное человекообразие я обрел годам к тридцати. Ну, соответственно, и писать стал к тому времени что-то, чего я сейчас не стыжусь, что я публикую. А все эти километры стихов, с 13 лет написанные, надеюсь никогда не будут известны.
Безумный провокатор
Г.А.:
А что повлияло на ваше становление как человека и как поэта? Сам ход жизни? Или были какие-то события?
К.Т.:
Никаких особых событий не было. Было чтение умных, хороших книг и то, что заложили бабушка с дедушкой. Совсем маленьким я жил с ними несколько лет, а потом каждое лето ездил на каникулы. Лучше и мудрее человека, чем бабушка Роза Васильевна, я не встречал. Она не была похожа на тот расхожий кинематографический образ мудрой кавказской старухи, нет, она была необыкновенно веселой и смешливой, доброй и спокойной, и доброжелательной. Я не слышал, чтобы она когда-то повышала голос. От нее исходило тепло и какое-то веселое, не унылое добро…
Г.А.:
Не железобетонная добродетель…
К.Т.:
Да-да. Добродетель того толка, которую, казалось, не так тяжело было нести, потому что бабушка ничем не прельщалась. Ей все казалось или глупым, или смешным, или просто мерзким. И я подозреваю, что когда я созерцал декадентские и нигилистические бездны и пытался их ощупывать, и упивался всем этим, что-то пойти до конца все время мешало. Я думаю, что это понимание того, что можно, что нельзя, что ловко, что неловко, было заложено в самом детстве. Читать или писать про все эти бездны в стихах вроде бы ничего, красиво: гибель, отчаяние, полет в бездну, а на деле-то получается заблеванный пол… Такого рода романтика не выдерживает проверки бытом, жизнью.
Г.А.:
И вы постепенно от нее отошли?
К.Т.:
Да. Отчасти из брезгливости. А еще потому, что я человек простодушный – если ты пишешь про бездны и отчаяние, то иди до конца, прыгай…
Г.А.:
А было желание прыгнуть?
К.Т.:
Раза два, в мятежной юности.
Г.А.:
И что остановило?
К.Т.:
Во-первых, я был очень здоровый кавказский молодой человек. Жизнь во мне бурлила. Во-вторых, трусость. К сожалению, сознания того, что это какая-то чудовищная пошлость и неблагодарность, тогда не было.
Г.А.:
Как вы начали печататься? Как попали в литературу?
К.Т.:
Печататься я начал уже после перестройки, в 1989, по-моему, году. Тогда одновременно вышло в эмигрантских журналах – «Континенте», «Синтаксисе», «Время и мы» – по большой поэме. Ну а потом все шло тихонько, книга за книгой.
Г.А.:
А как вы попали в поэтическую среду?
К.Т.:
Это было очень смешно. Пока я писал все свои безумства, у меня не было ни на кого никакого выхода. Кроме того, к старшему школьному возрасту у меня уже развился такой зоологический антикоммунизм, что было понятно, что публиковаться нужно или в самиздате или – еще лучше – на Западе. Но легко сказать, в самиздате. А где? Где тот самиздат? Где тот Запад? Я помню, как мне посоветовали обратиться к Евгению Рейну. И я его перепугал.
Г.А.:
Как так?
К.Т.:
Он явно решил, что из КГБ прислали провокатора. Сначала ему передали стихи, потом пришел я. А Евгений Рейн любил поучить: вот он сидит и рассказывает мне что-то про мои стихи. А мне это совершенно неинтересно, потому что, в отличие от сегодняшнего состояния, тогда я был абсолютно уверен в своих стихах. И кто-то там меня будет учить?! Я, конечно, его выслушал, как мне казалось, вежливо, а потом сказал: «Вот что, Вы лучше мне скажите – как мне на Западе опубликоваться?» Совершенно как провокатор, да еще и не очень умный. Безумный провокатор…
И вот я предпринял несколько таких странных попыток, а потом случайно услышал, как мой коллега что-то рассказывал о поэтах концептуалистах. Я говорю: «Ты с ними знаком что ли?» Он: «Да-да». Как выяснилось потом, он хвастался. Я попросил его передать им мою книжку. Но в общем это у него не вышло, но у него был знакомый, который действительно их знал, и вот через него-то Левке Рубинштейну все-таки мои стихи передали.
Г.А.:
И он их прочитал?
К.Т.:
Если бы сейчас мне передали чью-то папочку, я ее, может быть, и открыл бы, а может быть, и нет. Не, даже так – я бы постарался ее не взять. Ну с каких щей? Ну, и Лева, судя по всему, поступил точно также. Но я был упорный молодой человек. А главное – мне же не его оценка была нужна, мне нужно было, чтобы он помог книжечку переправить на Запад. И вот через неделю я звоню, мол, Лев Семенович, вам передавали мои стихи. Он что-то там начал мямлить, говорить, что еще не прочитал. Ну я спрашиваю в лоб: «А Вы собираетесь вообще их читать?» Он говорит: «Да-да, конечно…»
А пока я ему звонил, в гостях у него был Дмитрий Александрович Пригов, который в отличие от таких легкомысленных лириков, как я и Рубинштейн, был человек любопытный и ответственный. И он-то стихии прочитал. Потом мы встретились. В этот круг я вот таким странным образом попал, и очень рад, и этим людям очень благодарен. Потому что среди них не было никакой чудовищной традиционной поэтической пошлости, кривляния, никаких пьяных уверений во взаимной гениальности. Занятие поэзией в этом кругу увязывалось с пристойным поведением, что для меня было очень полезно. Через них я познакомился с Сережей Гандлевским, с его кругом…
Люди и книги
Г.А.:
Можете рассказать о людях, которые на вас повлияли?
К.Т.:
Во-первых, бабушка, Роза Васильевна. Потом – по ассоциации с бабушкой, Наталья Леонидовна Трауберг. Я был счастлив, что познакомился с ней. И в последние ее годы мы, можно сказать, дружили. Потом, это Пригов, Рубинштей, Гандлевский, которые кроме литературных влияний, влияли и по-человечески.
Г.А.:
А как вы познакомились с Натальей Леонидовной?
К.Т.:
Ей, видимо, кто-то дал почитать мои стишки, и ей захотелось об этом поговорить. Она была уже больна. Я, когда новую книжку или цикл стихов пишу, показываю нескольким людям, чье мнение мне важно. И в частности, в последние годы среди них былаи Наталья Леонидовна. А моя книжка «Греко- и римско-кафолические песенки и потешки» отчасти ею вдохновлена и ей посвящена.
Г.А.:
Вы крещены?
К.Т.:
Я крещен очень поздно. К 30 годам. Это произошло довольно легкомысленно. Моего школьного приятеля решила крестить жена, и я пошел с ним буквально за компанию. Стыдно признаться, сам бы я не решился. Но, к сожалению, в церковь почти не хожу по некоторой своей дикости и боязни.
Г.А.:
Христианство сегодня существует как что? Как культурологический компонент? Как архаика? Как жизнь?
К.Т.:
Я не уверен, что являюсь носителем настоящей веры, но совершенно точно, что если говорить дурацкое слово – мировоззрение, то основой мировоззрения может быть только христианство, поскольку все остальное, что я пытался примеривать – «в том совести, в том смысла нет». Христианство – это единственное, что не оскорбляет ни совесть, ни интеллект, ничего. Христианство для меня – итог некоего пути. Просто без этого все теряет смысл. И зачем тогда жить?
Г.А.:
Про людей поговорили, теперь – про те книжки, которые на вас повлияли.
К.Т.:
Александр Блок – первое потрясение. Потом весь Серебряный век, потом – общеобязательные акмеисты, естественно – Мандельштам. Последнее, настоящее, большое потрясение – Бродский. Я прочитал его чуть позже, чем положено, и прочитал сразу его лучшие стихи среднего периода. Мне это было очень полезно, поскольку я понял, что человек может быть современным поэтом...
Ведь еще в армии оказалось, что вся та эпигонская поэтика Серебряного века, которую я так пестовал и так любил, ничего не может сделать с окружающим материалом. Она абсолютно не работает. И тут вдруг – Бродский. Я понял, что эта чудовищная жизнь поддается, ее можно «сказать» и, конечно, был страшный соблазн подражать Броскому. Но к тому времени я был уже большой мальчик и, слава Богу, совсем по этому пути не пошел. А Бродский в этом смысле такой необыкновенно соблазнительный – поскольку для человека, мало-мальски знакомого с техникой, внешние черты его стиля – узнаваемые и очень эффектные – довольно легко подделать.
А после этого были Рубинштейн и Пригов, которые меня удивили. Но тут уже соблазна подражать не было. Хотя, безусловно, что-то я там почерпнул. Это если говорить о стишках. А если вообще о жизни, то это Честертон и Льюис – такое отчасти длящееся потрясение и открытие христианского мира.
Оказалось, что христианство может быть живым, применимым к жизни, не скучным, не мракобесным, что христианство вполне сочетается с интеллектуальной изощренностью и художественным совершенством, причем не археологическим совершенством, а сейчас, здесь. Да, творения Честертона – это проповедь. Но кроме того, это величайшее литературное произведение. «Человек, который был четвергом» – это гениальный роман, не меньший, чем какой-нибудь Кафка.
Роман Льюиса и его Нарния – это тоже безукоризненное художественное произведение. И я надеюсь, что они открывают мир христианства не только мне, но и каким-то талантливым мальчикам и девочкам, которые сейчас берутся за перо и начинают писать. Я думаю, что сейчас в России очень нужно показывать, что христианство может быть таким, что оно жизнь, свобода и спасение, а не бегство и не закрывание глаз.
Перестать врать
Г.А.:
Кто-нибудь сегодня пишет о христианстве так, как Льюис и Честертон? Есть такие авторы?
К.Т.:
К величайшему моему сожалению, я читаю очень мало современной литературы, хотя бы надо. Но я ленюсь. Времени осталось мало. Сейчас, в этом разливанном море, понять где и кто, и что – очень тяжело. Кроме того, я себя уже по-старчески берегу, потому что, когда я читаю современную литературу, я начинаю раздражаться и злиться, потому что очень много наглости, наглой бездарности, просто мерзости. Я не хочу это читать.
Г.А.:
Почему такая ситуация в литературе?
К.Т.:
Ну, только в литературе? Повсюду сейчас такая ситуация… По всему миру происходит некоторое скатывание. Но у нас это идет быстрее, у нас меньше сопротивление, потому что была советская власть, которая 70 лет вытравляла всю традиционную культуру: не только искусство, а именно культуру, в том числе и религию, нравственность. И поэтому когда, слава Богу, это советская власть рухнула, наступила свобода. Но свобода оказалась правом на бесчестие. Теперь у нас все новое, «совремённое», как мой папа говорит. Как на Западе. А Запад понимается как очень плохие голливудские боевики категории даже не В и С, а W. Мы все чувствуем, что идет скатывание, опошление, одичание. И сейчас речь даже не о том, как это назвать, а как этому противиться.
Г.А.:
Как?
К.Т.:
Во-первых, перестать врать. Говорить правду. Называть вещи своими именами. Сейчас очень много вранья. Чуть ли не больше, чем при советской власти. Сверху донизу все врут. Во-вторых, воспитывать детей, читать им книжки. Сейчас вырастает поколение, которым мамы не читали книжки. А если мама не читает, то и ребенок не будет читать потом.
Г.А.:
В связи с этим вопрос о роли литературы в жизни человека, в жизни общества? Место литературы?
К.Т.:
Я уверен, что нас, почти наравне с мамами и папами, воспитывают книжки. В некотором смысле, мы все – Дон Кихоты, мы живем в мире, который вычитали. И то, что люди перестают читать или читают какую-то совершенную мерзость, значит, они и будут жить в таком мире, они будут реагировать так, как они вычитали. Понятно, что человек может прочитать Шекспира, Достоевского, Толстого, Данте, всю классику и остаться мерзавцем, но он хотя бы будет знать, что существует другая жизнь, существуют другие реакции, он будет это учитывать. А если он все-таки не мерзавец, ему будет легче быть не мерзавцем.
Г.А.:
Должна ли быть какая-то отдельная церковная литература? Негреховная литература?
К.Т.:
Что именно имеется в виду? На эти темы? Или по благословению? Если литература пишется с целью быть негреховной, правильной и праведной, то сама заданность цели все погубит. Но это очень сложный вопрос. В конце концов псалмы – это тоже поэзия, великая поэзия, кроме всего прочего. Но сейчас, я боюсь, «церковной литературой» только вред можно принести. Люди будут смеяться. Если хочешь писать проповедь – пиши. Это люди будут читать. А когда за литературу выдают проповедь, но только с какими-то литературными завитушками, на уровне сериалов по художественности, сложности и изяществу, то ничего хорошего не получится. Кому это может нравиться? А самое главное – это подчеркивает то, что все это очень простенькое, не для умных людей. Умные люди таким не прельстятся.
И вообще, меня как-то спросили, может ли быть религиозная литература, и я сказал, что никакой другой литературы нет. Она может быть языческая религиозная, может быть, наверное, исламская, и, конечно, может быть христианская.
Г.А.:
Есть ли какое-нибудь будущее у литературы?
К.Т.:
Этого никто не знает, поскольку никакого фатализма – ни отрицательного, ни положительного – нет. Как будем себя вести, так и будет.
О поэзии и поэтах
Г.А.:
А какое место занимает поэзия в жизни и в литературе?
К.Т.:
Мне всегда казалось, что поэзия – это квинтэссенция литературы. Сейчас я уже в этом так не уверен. Единственное, что могу ответить, что сегодня, как ни странно, современная русская поэзия гораздо интереснее, чем современная проза. У меня может быть к ней сколько угодно претензий, потому что дай мне волю, все бы, как я, писали. Но то, что много разнообразных, хороших и разных поэтов, это да.
Я сам человек более простодушный и простой, чем большинство моих коллег, и пишу то, что мне самому хотелось бы прочитать. Я пишу не для поэтов, а скорее для инженеров – они поймут, о чем идет речь в большинстве моих стихов. Могут это одобрить, не одобрить – это другой вопрос.
Я уверен, что поэт должен стараться быть максимально понятным. До тех пор пока это стремление к понятности не перейдет в потакание читателю, до тех пор пока он не искажает свои эмоции, своего звука – вот до тех пор он должен доводить, чтобы это было просто и понятно. Современное представление, что простота и примитивность – это синонимы, ошибочно. Это не синонимы, потому что «Мороз и солнце, день чудесный» – стихотворение простое, но гениальное. Ничего лучше я в русской и мировой поэзии не встречал. И оно совсем не просто построено – оно виртуозно написано! Это головокружительная поэзия. Тем не менее, прочтите это ребенку – и он все это увидит и поймет. Это для меня идеал стихотворства. А для большинства современных поэтов, стихи – это поздний Мандельштам, неясный никому.
Г.А.:
Чем туманнее, тем гениальнее…
К.Т.:
Среди поэтов существует катастрофическая боязнь простоты и понятности. Отчасти это всегда было: желание замысловатости, желание поважничать. А усугубилось, как ни странно, советской историей литературы, когда критика и школа учили, что искусство должно быть понятно, искусство должно принадлежать народу. И поэтому все, что было непонятно, казалось хорошим. Из боязни походить на Исаковского-Долматовского, люди начинали писать метаметафорами. А это ведь, на самом деле, рабская реакция.
Г.А.:
То есть вы не боитесь писать просто?
К.Т.:
Я просто не вижу смысла писать иначе. Потому что я уверен, что писание – это желание что-то передать. Вольно было Пушкину лукавить – я пишу для себя, публикую для денег. Конечно, все это не так. Особенно сейчас: публикуй – не публикуй, денег не будет. Значит, если ты публикуешь, ты к кому-то обращаешься. Обращаться к пятидесяти, ну хорошо, пяти тысячам тех, кто сами пишут или пишут о стихах, мне как-то неинтересно. Если я пишу о том, что мне кажется или важным, или забавным, то это я хочу что-то донести или внушить читателю, а значит, я должен его заинтересовать – вот на, посмотри, вот это интересно, посмотри, дружок.
Г.А.:
Какова роль поэта в мире. Кто он?
К.Т.:
Я попробую неточно процитировать мое любимое маленькое эссе Честертона. Люди делятся на три категории. Первая – собственно люди, простые люди – самые хорошие, вторая – умники и третья – поэты. Умники, естественно, самые плохие, а поэты – это те, кто в силу знаний, таланта и высокой культуры способны выразить то, что чувствуют, но не могут выразить простые люди. Это, конечно, специально упрощенная схема, но, по сути, это так. За что мы любим стихи? Когда возникает в душе отзвук: «Да! Да! Вот это – да!». Просто рождаются люди, от природы в той или иной степени склонные к этой деятельности. Дальше все зависит от ума, воли, трудолюбия. Никаких больших отличий с хорошим краснодеревщиком я не вижу.
Г.А.:
Стихотворение – что это? Сама ткань поэзии – это что?
К.Т.:
Не знаю. Этого толком никто не знает. Тот, кто по-настоящему на это ответит, вправе претендовать на Нобелевскую премию. Все, что я говорил, раньше – сильно упрощено. Понятно, что в поэзии есть очень много – я не люблю об этом говорить и считаю, что вредно это подчеркивать: очень много таинственного, странноватого, необъяснимого здешним миром. Многое во всей этой музыке нездешнего происхождения. Единственно, очень важно понимать, что нездешнее происхождение не означает происхождение из небесной канцелярии. Это может быть и совсем из других департаментов. И примеров тому немало – что-то написано под диктовку князя мира сего, просто бесов. Конечно, когда я говорю, что поэт – то же самое, что краснодеревщик, это глупость, потому что поэт не всегда может сам объяснить, откуда что взялось. Но различать добро и зло обязан также, как краснодеревщик и все остальные. Никто этой общечеловеческой обязанности ни с каких самых великих и гениальных людей не снимает.
Г.А.:
Но, видимо, потому, что есть соприкосновение с нездешним миром, многие считают иначе… Считают, что гений – сам мерило всего…
К.Т.:
В силу естественного и отчасти оправданного одичания в нашей стране, с прерыванием духовной и церковной традиции, возникло представление о некоем тупеньком дуализме – вот есть этот мир, материальный, а есть – духовный. И духовный мир – это однозначно хорошо. Он такой неопределенный, но духовный, и поэтому все, что идет не от материального мира, а от неких иных пространств – это хорошо, а то, что эта духовность может буквально навеваться из самых страшных бездн, этого не понимают. Для этого нужно, чтобы в свое время детям объясняли, что хорошо, что плохо.
Г.А.:
Почему вы решили прозу писать? Я имею в виду повесть «Лада, или Радость»?
К.Т.:
Я очень давно и долго мечтал написать прозу. И даже пытался. И потом бросил, понял, что не получается, совсем. А потом вот как-то стал долго гулять по лесу с собачкой, и стало немножко легче, потому что… можно жить: то опадает листва, то появляется, то такой свет, то другой; и окружающий нас ужас – это не весь мир. И стало складываться. Кроме всего прочего, у меня была безумно интересная задача: можно ли написать прозу так, чтобы было все-таки читабельно, и в то же время без секса, насилия, без чернухи. Даже без любовной интриги. Сразу скажу, что мне проза эта нравится, хотя, наверное, немногие со мной согласятся. Главное, это было для меня такое удовольствие, уже забытое! Поскольку стихи я пишу очень уже давно и вроде как привык. Ну напишешь стихотворение, ну да, хорошо. Похвалишь себя – молодец, но каких-то упоений нет. А тут вроде ничего не выходит, а потом вдруг получился абзац, и все складно. Себе радость доставил! Но, к сожалению, после этого уже два года прошло – и ни стихов, ничего…
Г.А.:
Вы этого пугаетесь?
К.Т.:
Очень. Потому что это единственное, что я более-менее умею делать, а тут же гарантировать никто ничего не может, поскольку это не совсем ремесло. Слава Богу, у меня нет соблазна просто завести шарманку и настрочить более-менее пристойных стихов.
Г.А.:
Как вообще пишутся стихи?
К.Т.:
Очень по-разному. Возникает какая-то яркая точка – будь то звуковая или фонетическая, может быть, фраза, может быть, какое-то зрительное впечатление, которое начинаешь проживать, переживать. И вокруг него строится уже что-то такое... А потом уже дело техники и ума; ты думаешь: а что из этого мазка можно сделать, почему это так?
Г.А.:
А может поэт себя к творчеству подталкивать? Например, искать острые ощущения? Или поститься, молиться, слушать радио «Радонеж»?
К.Т.:
По моему опыту, это ни от чего не зависит. Когда не пишется, то большой соблазн придумать себе, почему не пишется: вот да, потому что у меня нет кабинета, если бы мне не мешали…. А когда пишется, тогда не мешает ничего.
Г.А.:
За что вы можете поблагодарить Бога, судьбу?
К.Т.:
Почти за все. За то, что он меня, судя по всему, от каких-то больших соблазнов просто уберегал, очевидно, понимая. что противостоять им у меня нет никаких сил. Он не испытывал меня по-настоящему на крепость, потому что крепости никакой нет. И уберегал меня: иногда жизнь так поворачивалась, что я мог стать мерзавцем – или по своей повадливости, или по трусости. А так… Конечно, за все…
www.bogoslov.ru