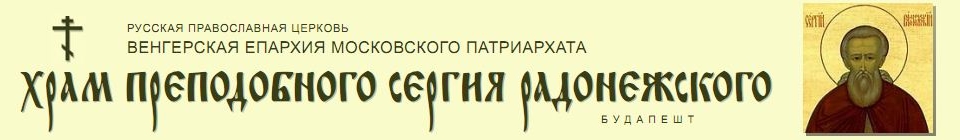ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА
ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ
СЛОВО НАСТОЯТЕЛЯ
ХРИСТИАНСТВО
В ВЕНГРИИ
СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ
ХРИСТИАНСКИЕ ПРАВЕДНИКИ
ВСЕХ ИХ СОЗДАЛ БОГ
ЖИЗНЬ В ЦЕРКВИ
НАШЕ ПРОШЛОЕ
И НАСТОЯЩЕЕ
О ПРИХОДЕ
РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
ЦЕРКОВНАЯ БИБЛИОТЕКА
ДУХОВЕНСТВО ХРАМА
СТРАНИЦА РЕГЕНТА
ЦЕРКОВЬ
И ГОСУДАРСТВО
ВОСПОМИНАНИЯ
И ДНЕВНИКИ
НАШИ РЕКВИЗИТЫ
СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
СОВЕТЫ ВРАЧА
ПЛАН ПРОЕЗДА
ФОТО
ССЫЛКИ
ГАЛЕРЕИ
КОНТАКТЫ
Старые лошади Джона Скиптона
Пока мы завтракали, я глядел, как за окном в лучах восходящего солнца
рассеивается осенний туман. День снова обещал быть ясным, но старый дом в
это утро пронизывала какая-то промозглость, словно нас тронула холодная рука,
напоминая, что лето прошло и надвигаются тяжелые месяцы.
-- Тут утверждают, -- заметил Зигфрид, аккуратно прислоняя номер
местной газеты к кофейнику, -- что фермеры относятся к своим животным
бесчувственно.
Я перестал намазывать сухарик маслом.
-- То есть жестоко с ними обращаются?
-- Ну, не совсем. Просто автор статьи утверждает, что для фермера
скотина -- только источник дохода, чем все и определяется, а об эмоциях, о
привязанности не может быть и речи.
-- И правда, что получилось бы, если бы фермеры походили на беднягу
Кита Билтона? Свихнулись бы все до единого.
Кит был шофером грузовика и, как многие жители Дарроуби, откармливал в
саду боровка для домашнего употребления. Но когда наступал срок его колоть,
Кит плакал по три дня напролет. Как-то я зашел к нему в один из таких дней.
Его жена и дочь разделывали мясо для пирогов и засолки, а сам Кит уныло
притулился у кухонного очага, утирая глаза. Он был дюжим силачом и без
малейшего видимого усилия забрасывал в кузов своей машины тяжеленные мешки,
но тут он вцепился в мою руку и всхлипнул: "Я не выдержу, мистер Хэрриот! Он
же был просто как человек, наш боровок, ну просто как человек!"
-- Не спорю! -- Зигфрид отрезал себе порядочный ломоть от каравая,
испеченного миссис Холл. -- Но ведь Кит не настоящий фермер. А это статья о
владельцах больших стад. Вопрос ставится так: способны ли они привязываться
к своим животным? Могут ли у фермера, выдаивающего за день по пятьдесят
коров, быть среди них любимицы, или они для него -- просто аппараты,
производящие молоко?
-- Да, интересно, -- сказал я. -- Но, по-моему, вы совершенно верно
указали на роль численности. Скажем, у фермеров в холмах коровы нередко
наперечет. И они всегда дают им клички -- Фиалка, Мейбл, а недавно мне
пришлись смотреть даже Селедочку. По-моему, мелкие фермеры действительно
привязываются к своим животным по-настоящему, но вряд ли можно сказать то же
самое о хозяине большого стада.
Зигфрид встал и со вкусом потянулся.
-- Пожалуй, вы правы. Ну так сегодня я посылаю вас к владельцу очень
большого стада. В Деннэби-Клоуз к Джону Скиптону. Подпилить зубы. Пара
старых лошадей приболела. Но лучше захватите полный набор инструментов --
ведь причина может оказаться любой.
Я прошел по коридору в комнатушку, где хранились инструменты, и обозрел
те, которые предназначались для лечения и удаления зубов. Занимаясь зубами
лошадей и коров, я всегда ощущал себя средневековым коновалом -- а в эпоху
рабочей лошади превращаться в дантиста приходилось постоянно. Чаще всего
надо было удалять "волчьи зубы" у стригунов и двухлеток. Волчьими зубами, уж
не знаю почему, называют маленькие зубы, иногда вырастающие перед коренными,
и если жеребенок хирел, хозяин не сомневался, что вся беда -- от волчьего
зуба.
Ветеринар мог до пены у рта втолковывать, что этот крохотный рудимент
никак не способен повлиять на здоровье лошади, а дело, по-видимому, в
глистах -- фермеры упрямо стояли на своем, и зуб приходилось удалять.
Проделывали мы это следующим образом: лошадь заводили в угол,
приставляли к зубу раздвоенный металлический стержень и резко били по нему
нелепо большим деревянным молотком. У этих зубов почти нет корня и операция
особой боли не причиняла, но лошадь отнюдь ей не радовалась, и обычно при
каждом ударе возле наших ушей взметывались копыта передних ног.
А после того как мы завершали операцию и объясняли фермеру, что
занялись этой черной магией, только потакая его суеверию, лошадь, словно
назло, сразу же шла на поправку и обретала цветущее здоровье. Как правило,
фермеры бывают сдержанны и не слишком хвалят наши успехи из опасения, как бы
мы не прислали счет побольше, но в этих случаях они забывали про
осторожность и кричали нам на всю рыночную площадь: "Э-эй! Помните
жеребчика, которому вы вышибли волчий зуб? Такой ядреный стал, просто
загляденье. Сразу излечился!"
Я еще раз с отвращением поглядел на разложенные зубные инструменты --
жуткие клещи с двухфутовыми ручками, щерящиеся зазубринами щипцы, зевники,
молотки и долота, напильники и рашпили -- ну просто мечта испанского
инквизитора! Для перевозки мы укладывали их в деревянный ящик с ручкой, и я,
пошатываясь, дотащил до машины порядочную часть нашего арсенала.
Ферма, на которую я ехал, Деннэби-Клоуз, была не просто зажиточным
хозяйством, а подлинным символом человеческой целеустремленности и упорства.
Прекрасный старинный дом, добротные службы, отличные луга на нижних, склонах
холма -- все доказывало, что старый Джон Скиптон осуществил невозможное и из
неграмотного батрака стал богатым землевладельцем.
Чудо это досталось ему нелегко: за спиной старика Джона была долгая
жизнь, полная изнурительного труда, который убил бы любого другого человека,
-- жизнь, в которой не нашлось места ни для жены, ни для семьи, ни для
малейшего комфорта. Однако даже такие жертвы вряд ли обеспечили бы ему
достижение заветной цели, если бы не удивительное земледельческое чутье,
давно превратившее ею и местную легенду. "Пусть хоть весь свет идет одной
дорогой, а я пойду своей", -- такое, среди множества других, приписывалось
ему высказывание, и действительно скиптоновские фермы приносили доход даже в
самые тяжелые времена, когда соседи старика разорялись один за другим. Кроме
Деннэби Джону принадлежали еще два больших участка отличной земли примерно
по четыреста акров каждый.
Победа осталась за ним, но, по мнению некоторых, одерживая ее, он сам
оказался побежденным. Он столько лет вел непосильную борьбу и выжимал из
себя все силы, что уже никак не мог остановиться. Теперь ему стали доступны
любые удовольствия, но у него на них просто не хватало времени.
Поговаривали, что самый бедный из его работников ест, пьет и одевается куда
лучше, чем он сам.
Я вылез из машины и остановился, разглядывая дом, словно видел его
впервые, и в который раз дивясь его благородству и изяществу, ничего не
потерявшим за триста с лишним лет в суровом климате. Туристы специально
делали большой крюк, чтобы полюбоваться Деннэби-Клоузом, сфотографировать
старинный господский дом, высокие узкие окна с частым свинцовым переплетом,
массивные печные трубы, вздымающиеся над замшелой черепичной крышей, или
просто побродить по запущенному саду и подняться по широким ступенькам на
крыльцо, где под каменной аркой темнела тяжелая дверь, усаженная шляпками
медных гвоздей.
Из этого стрельчатого окна следовало бы выглядывать красавице в
коническом головном уборе с вуалью, а под высокой стеной с зубчатым
парапетом мог бы прогуливаться кавалер в кружевном воротнике и кружевных
манжетах. Но ко мне торопливо шагал только старый Джон в перепоясанной
куском бечевки старой рваной куртке без единой пуговицы.
-- Зайдите-ка в дом, молодой человек! -- крикнул он.-- Мне надо с вами
по счетцу расплатиться.
Он свернул за угол к черному ходу, и я последовал за ним, размышляя,
почему в Йоркшире обязательно оплачивают "счетец", а не счет. Через кухню с
каменным полом мы прошли в комнату благородных пропорций, но обставленную
крайне скудно: стол, несколько деревянных стульев и продавленная кушетка.
Старик протопал к каминной полке, вытащил из-за часов пачку бумаг,
полистал их, бросил на стол конверт, затем достал чековую книжку и положил
ее передо мной. Я, как обычно, вынул счет, написал на чеке сумму и
пододвинул книжку к старику. Выдубленное погодой лицо с мелкими чертами
сосредоточенно нахмурилось, и, наклонив голову так низко, что козырек ветхой
кепки почти задевал ручку, он поставил на чеке свою подпись. Когда он сел,
штанины задрались, открыв тощие икры и голые лодыжки -- тяжелые башмаки были
надеты на босу ногу,
Едва я засунул чек в карман, Джон вскочил.
-- Нам придется пройтись до реки: лошадки там.
И он затрусил через кухню.
Я выгрузил из багажника ящик с инструментами. Странно! Каждый раз,
когда нужно нести что-нибудь потяжелее, мои пациенты оказываются где-нибудь
в отдалении, куда на машине не доберешься! Ящик был словно набит свинцовыми
слитками и не обещал стать легче за время прогулки через огороженные
пастбища.
Старик схватил вилы, вогнал их в порядочный тюк спрессованного сена,
без малейшего усилия вскинул его на плечо и двинулся вперед все той же
бодрой рысцой. Мы шли от ворот к воротам, иногда пересекая луг по диагонали.
Джон не замедлял шага, а я еле поспевал за ним, пыхтя и старательно отгоняя
мысль, что он старше меня по меньшей мере на пятьдесят лет.
Примерно на полпути мы увидели работников, заделывавших пролом в одной
из тех каменных стенок, которые повсюду здесь исчерчивают зеленые склоны
холмов. Один из работников оглянулся.
-- Утро-то какое погожее, мистер Скиптон! -- весело произнес он
напевным голосом.
-- Чем утра-то разбирать, лучше бы делом занимался! -- проворчал в
ответ старый Джон, но работник только улыбнулся, словно услышал самую
лестную похвалу.
Я обрадовался, когда мы наконец добрались до поймы. Руки у меня,
казалось, удлинились на несколько дюймов, по лбу ползла струйка пота. Но
старик Джон словно бы нисколько не устал. Легким движением он сбросил вилы с
плеча, и тюк сена плюхнулся на землю.
На этот звук в нашу сторону обернулись две лошади. Они стояли рядом на
галечной отмели, там, где зеленый дерн переходил в маленький пляж. Головы их
были обращены в противоположные стороны, и обе ласково водили мордой по
спине друг друга, а потому не заметили нашего приближения. Высокий обрыв на
том берегу надежно укрывал это место от ветра, а справа и слева купы дубов и
буков горели золотом и багрецом в лучах осеннего солнца.
-- Отличное у них пастбище, мистер Скиптон, -- сказал я.
-- Да, в жару им тут прохладно, а на зиму вон для них сарай, -- и он
указал на приземистое строение с толстыми стенами, и единственной дверью. --
Хотят -- стоят там, хотят -- гуляют.
Услышав его голос, лошади тяжело затрусили к нам, и стало видно, что
они очень стары. Кобыла когда-то была каурой, а мерин -- буланым, но их
шерсть настолько поседела, что теперь оба они выглядели чалыми. Особенно
сказался возраст на мордах. Пучки совсем белых волос, проваленные глаза и
темные впадины над ними -- все свидетельствовало о глубокой дряхлости.
Тем не менее с Джоном они повели себя прямо-таки игриво: били передними
копытами, потряхивали головой, нахлобучивая ему кепку на глаза.
-- А ну отвяжитесь! -- прикрикнул он на них. -- Совсем свихнулись на
старости лет! -- Но он рассеянно потянул кобылу за челку, а мерина потрепал
по шее.
-- Когда они перестали работать? -- спросил я.
-- Да лет эдак двенадцать назад.
-- Двенадцать лет назад! -- Я с недоумением уставился на Джона. -- И с
тех пор они все время проводят тут?
-- Ну да. Отдыхают себе, вроде как на пенсии. Они и не такое заслужили.
-- Старик помолчал, сгорбившись, глубоко засунув руки в карманы куртки. --
Работали хуже каторжных, когда я работал хуже каторжного. -- Он поглядел на
меня, и я вдруг уловил в белесо-голубых глазах тень тех мучений и
непосильного труда, который он делил с этими лошадьми.
-- И все-таки... двенадцать лет! Сколько же им всего?
Губы Джона чуть дрогнули в уголках.
-- Вы же ветеринар, вот вы мне и скажите.
Я уверенно шагнул к лошадям, спокойно перебирая в уме формы чашечки,
степень стирания, угол стирания и все прочие признаки возраста; Кобыла
безропотно позволила мне оттянуть ей верхнюю губу и посмотреть ее зубы.
-- Господи! -- ахнул я. -- В жизни ничего подобного не видел!
Неимоверно длинные резцы торчали вперед почти горизонтально, смыкаясь
под углом не больше сорока пяти градусов. От чашечек и помину не осталось.
Они бесследно стерлись. Я засмеялся и поглядел на старика.
-- Тут можно только гадать. Лучше скажите мне сами.
-- Ей, значит, за тридцать перевалило, а мерин, он ее года на два
помоложе. Она принесла пятнадцать жеребят, один другого лучше, и никогда не
болела, вот только с зубами бывал непорядок. Мы их уже раза два подпиливали,
и теперь опять пора бы. Оба тощают, и сено изо рта роняют. Мерину совсем
худо приходится. Никак не прожует свою порцию.
Я сунул руку в рот кобылы, ухватил язык и отодвинул его в сторону.
Быстро ощупав коренные зубы другой рукой, я нашел именно то, чего ожидал.
Внешние края верхних зубов сильно отросли, зазубрились и задевали щеки, а у
нижних коренных отросли внутренние края и царапали язык.
-- Что же, мистер Скиптон, ей помочь нетрудно. Вот подпилим острые
края, и она будет как молоденькая.
Из своего огромного ящика я извлек рашпиль, одной рукой прижал язык и
принялся водить по зубам грубой насечкой, время от времени проверяя
пальцами, достаточно ли спилено.
-- Ну вот, вроде все в порядке, -- сказал я через несколько минут. --
Особенно заглаживать не стоит, а то она не сможет перетирать корм.
-- Сойдет, -- буркнул Джон. -- А теперь поглядите мерина. С ним что-то
нехорошо.
Я пощупал зубы мерину.
-- То же самое, что у кобылы. Сейчас и он будет молодцом.
Но водя рашпилем, я все тревожнее ощущал, что дело отнюдь не так
просто. Рашпиль не входил в рот на полную длину, что-то ему мешало. Я положил
рашпиль и сунул руку в рот, стараясь достать как можно глубже. И вдруг
наткнулся на нечто непонятное, чему там быть совсем не полагалось: словно из
неба торчал большой отросток кости.
Нужно было осмотреть рот как следует. Я достал из кармана фонарик и
посветил им через корень языка. Сразу все стало ясно. Последний верхний
коренной зуб сидел дальше, чем нижний, и в результате его дальняя боковая
стенка чудовищно разрослась, образовав изогнутый шип дюйма три длиной,
который впивался в нежную ткань десны.
Его необходимо было убрать немедленно. Моя небрежная уверенность
исчезла, и я с трудом подавил дрожь. Значит, придется пустить в ход страшные
клещи с длинными ручками, затягивающиеся с помощью барашка.
При одной мысли о них у меня по коже побежали мурашки. Я не выношу,
когда при мне кто-нибудь хлопает надутым воздушным шариком, а это было то же
самое, только в тысячу раз хуже. Накладываешь острые края клещей на зуб и
начинаешь медленно-медленно поворачивать барашек. Вскоре под огромным
давлением зуб начинает скрипеть и похрустывать. Это означает, что он вот-вот
обломится с таким треском, словно кто-то выстрелил у тебя над ухом, и уж тут
держись -- в лошадь словно сам дьявол вселяется. Правда, на этот раз передо
мной был тихий старый мерин и я мог хотя бы не опасаться, что он начнет
танцевать на задних ногах. Боли лошади не испытывали -- нерва в выросте не
было, -- а бесились только от оглушительного треска.
Вернувшись к ящику, я взял пыточные клещи и зевник, наложил его на
резцы и вращал храповик, пока рот не раскрылся во всю ширь. Теперь зубы
можно было разглядеть в подробностях, и, разумеется, я тут же обнаружил
точно такой же вырост с другой стороны. Прелестно! Прелестно! Значит, мне
придется сломать два зуба!
Старый конь стоял покорно, полузакрыв глаза, словно он на своем веку
видел все и ничто на свете его больше потревожить не может. Внутренне
сжавшись, я делал то, что полагалось. И вот раздался отвратительный треск,
глаза широко раскрылись, показав обводку белков, однако лишь с легким
любопытством, -- мерин даже не пошевелился. А когда я повторил то же со
вторым зубом, он даже не раскрыл глаз. Собственно говоря, пока я не извлек
зевник, можно было подумать, что старый конь зевает от скуки.
Я принялся укладывать инструменты, а Джон подобрал с травы костяные
шины и с интересом рассмотрел их.
-- Бедняга, бедняга! Хорошо, что я вас пригласил, молодой человек.
Теперь ему, верно, станет полегче.
На обратном пути старый Джон, избавившись от сена и опираясь на вилы,
как на посох, шел вверх по склону вдвое быстрее, чем вниз. Я еле поспевал за
ним, пыхтя и то и дело перекладывая ящик из руки в руку.
На полпути я его уронил и получил таким образом возможность перевести
дух. Старик что-то раздраженно проворчал, но я оглянулся и увидел далеко
внизу обеих лошадей. Они вернулись на отмель и затеяли игру -- тяжело
гонялись друг за другом, разбрызгивая воду. Темный обрыв служил отличным
фоном для этой картины, подчеркивая серебряный блеск реки, бронзу и золото
деревьев, сочную зелень травы.
Во дворе фермы Джон неловко остановился. Он раза два кивнул, сказал:
"Спасибо, молодой человек", резко повернулся и ушел.
Я с облегчением укладывал ящик в багажник и вдруг увидел работника,
который окликнул нас, когда мы шли к реке. Он устроился в солнечном уголке
за кипой пустых мешков и, все так же сияя улыбкой, доставал из старого
армейского ранца пакет с едой.
-- Пенсионеров, значит, навещали? Ну уж старый Джон туда дорогу хорошо
знает!
-- Он часто к ним туда ходит?
-- Часто? Да каждый божий день! Хоть дождь, хоть снег, хоть буря, он
туда ходит, ни дня не пропустит. И обязательно чего-ничего с собой прихватит
-- мешок зерна или соломки им подстелить.
-- И так целых двенадцать лет?
Он отвинтил крышку термоса и налил себе кружку чернильно-черного чая.
-- Ага. Эти коняги двенадцать лет ничего не делают, а ведь он мог бы
получить за них у живодера неплохие денежки. Удивительно, а?
-- Вы правы, -- сказал я. -- Удивительно.
Но насколько удивительно, я сообразил только на обратном пути домой.
Мне вспомнился утренний разговор с Зигфридом, когда мы решили, что фермер, у
которого много скотины, не способен испытывать привязанность к отдельным
животным. Однако за моей спиной в коровниках и конюшнях Джона Скиптона
стояли, наверное, сотни голов рогатого скота и лошадей.
Так что же заставляет его день за днем спускаться к реке в любую
погоду? Почему он окружил последние годы этих двух лошадей покоем и
красотой? Почему он дал им довольство и комфорт, в которых отказывает себе?
Что им движет?
Что, как не любовь?