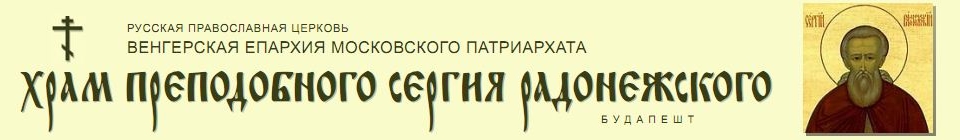ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА
ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ
СЛОВО НАСТОЯТЕЛЯ
ХРИСТИАНСТВО
В ВЕНГРИИ
СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ
ХРИСТИАНСКИЕ ПРАВЕДНИКИ
ВСЕХ ИХ СОЗДАЛ БОГ
ЖИЗНЬ В ЦЕРКВИ
НАШЕ ПРОШЛОЕ
И НАСТОЯЩЕЕ
О ПРИХОДЕ
РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
ЦЕРКОВНАЯ БИБЛИОТЕКА
ДУХОВЕНСТВО ХРАМА
СТРАНИЦА РЕГЕНТА
ЦЕРКОВЬ
И ГОСУДАРСТВО
ВОСПОМИНАНИЯ
И ДНЕВНИКИ
НАШИ РЕКВИЗИТЫ
СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
СОВЕТЫ ВРАЧА
ПЛАН ПРОЕЗДА
ФОТО
ССЫЛКИ
ГАЛЕРЕИ
КОНТАКТЫ
Искусство быть любимым
Игумен Савва Мажуко
Мы привыкаем жить задолго до того, как привыкаем мыслить.
Альбер Камю1
Гулять по кладбищу — привилегия живых. Пройтись по хорошему кладбищу всегда приятно. И даже полезно. И дело не в том, что эти прогулки навевают мысли о всеобщей тленности, бренности, временности. Такие мысли случаются, но признаюсь, крайне редко. Зато бывают неожиданные встречи и разговоры. Как-то на могиле одной девочки, которая погибла совсем юной, на меня буквально набросился её друг:
— Где же справедливость? Где ваш Бог? Эта девочка умерла в двадцать лет, Что она видела? Она не успела выйти замуж, родить ребёночка, да просто пожить по-человечески! Почему Бог допускает такое?
— Отвечу на ваш вопрос, — сказал ему я, — если вы ответите на мой. А зачем она вообще родилась? Что, на земле не хватало девочек? Или студенток? Мир остро нуждался именно в её появлении на свет? В том, что она умерла, нет ничего удивительного — когда-нибудь всё равно бы умерла. Она жила — вот в чём загадка.
Циничные монахи бродят по кладбищам и вместо того чтобы утешить, вот — философствуют. Уверяю вас, мой собеседник утешился, а монахов ещё в глубокой древности называли любомудрами, то есть философами. Но в том-то и дело, что философия всегда имела своим предметом вещи предельно глубокие, а смерть к таковым не относится. Вот вопрос, волновавший многие поколения философов: почему нечто есть, а не наоборот — не есть? Мудрый Хайдеггер утверждал, что «только один вопрос: “Почему вообще есть сущее, а не, наоборот, ничто?” — предрешил судьбу западного мира»2.
Что-то подлинно философское было в словах Спинозы, написавшего, что по-настоящему свободный человек “менее всего думает о смерти, а мудрость его основана на размышлении о жизни, а не о смерти” (Этика IV, 67)3. Мне могут возразить: вспомните Сократа! Не он ли в знаменитом диалоге Федон говорит: “те, кто подлинно предан философии, заняты на самом деле только одним — умиранием и смертью” (Федон 64а)4. Но если мы внимательно вчитаемся в этот текст, то обнаружим, что весь диалог посвящён теме любви души к вожделенной истине и надежде на полное единение с ней в грядущей подлинной жизни. Занимаясь умиранием, Сократ на самом деле имел в виду подлинное бытиё, когда человек, освободившись от гнета страстей, от “диких эротов” (¢γρ?ων ™ρ?των,Федон 81а), будет жив по-настоящему. Известная фраза из Писания поминай последняя твоя, и во веки не согрешиши (Сир 7:39) также говорит не о смерти как о прекращении бытия, а о вечной жизни, в которой каждый из нас получит воздаяние по мере добра, сотворённого в этой жизни.
Грустный Камю считал проблему самоубийства главным вопросом философии: “Есть лишь одна по-настоящему серьёзная философская проблема — проблема самоубийства. Решить, стоит или не стоит жизнь того, чтобы её прожить, — значит ответить на фундаментальный вопрос философии”5. Красиво сказано! Остроумно. Поэтично. Трогательно. Но причём тут философия? Потому что ещё до того, как я начинаю что-то решать со своей жизнью, она у меня уже есть — аз есмь, ты еси, они суть. Чтобы хотеть не быть, нужно как минимум быть. Я — живой, и что это значит? И к чему такие затраты? Откуда эта расточительность и избыточность бытия? Живого слишком много и это сильно препятствует воцарению порядка и вселенского покоя. В своих последних глубинах мы всё равно понимаем, что с жизнью своей мы ничего поделать не можем. По-своему прав был чеховский герой: “Жизнь есть досадная ловушка. Когда мыслящий человек достигает возмужалости и приходит в зрелое сознание, то он невольно чувствует себя как бы в ловушке, из которой нет выхода”6. И это уже проблема нравственная: почему именно взрослый возмужавший человек ищет выход из жизни? Но тут скорее клинический случай. В большинстве же своём мы, взрослые люди, с годами теряем ощущение того, что мы вообще живы.
В биографии замечательного учёного-антиковеда отца Фестюжьера есть описание момента его обращения к Богу, переживание особого опыта богообщения. Однажды в молодости он, вполне светский молодой человек, зашёл в церковь и, пробыв там совсем недолго, вышел верующим католиком, а позже принял сан. Что там с ним случилось? Кто ему что сказал? Как его “охмурили”? Сам отец Андре рассказывал, что, находясь в церкви, он вдруг почувствовал, что любим7. Вот — самое краткое описание опыта встречи с Богом. Тончайшее и деликатнейшее из переживаний, которое так сложно передать на словах, особенно людям, не имевшим такого опыта.
Этот мир сотворён Богом, имя Которого — Любовь, и всё, что есть, есть лишь потому, что оно любимо. Всё существующее существует лишь потому, что любимо Творцом. Быть любимым есть основание тварности. Ты любишь все существующее, и ничем не гнушаешься, что сотворил; ибо не создал бы, если бы что ненавидел (Прем 11:25).
Сотворённое не может иметь нейтральный статус: вот есть некая вещь и ладно. Раз нечто существует, значит, оно любимо. Например, мы говорим: “кошки существуют”, что в свою очередь можно перевести как “Бог любит кошек”. Быть любимым — главное условие существования. Здесь каким-то образом пересекаются онтология с экзистенцией: в моей личной встрече с Богом мне открывается само основание сущего, Сама Жизнь, у Которой есть Лик.
Великий Овидий рукой гения написал когда-то знаменитое “Искусство любви”, Ars amandi, и хотя этот текст не из тех, что входят в круг христианского чтения, сама интуиция любви как искусства, которому следует долго и терпеливо учиться, верна в последних своих глубинах. Весь опыт христианской аскезы, все духовные упражнения, которые мы берём на себя, все гениальные прозрения мистиков зиждутся на решении этой простой задачи — научиться любить Другого — Бога и ближнего. К этому сводится весь Закон и пророки, и в этом смысле весь корпус текстов христианских авторов, собранных под одной обложкой, можно было бы озаглавить этой простой и гениальной овидиевской фразой — Ars amandi. Однако два принципиальных момента нашей христианской жизни говорят нам о том, что само это искусство любви, которое нам предстоит освоить, есть продолжение чего-то более важного и фундаментального. Евангелие не исчерпывается темой ars amandi, и это даже не главное его содержание, отличающее Евангельское Благовестие от откровений других религий. Самое главное, к чему призывает нас Евангелие, это ars amari — искусство быть любимым, что в христианском мироощущении совпадает с искусством быть. Евангелие и Евхаристия — это опыт Откровения любви Божией к человеку, и быть любимым нам предстоит научиться ещё до того, как мы освоим искусство любви.
Но не относится ли этот вопрос к разновидности праздной лирики или богословского пустословия? —Да именно он обладает исключительной практической ценностью. Мы очень часто замечаем, что вопреки всем обещаниям Христова вера не освобождает, а сковывает, не даёт жить и свободно дышать, и виновата в этом не Христова вера, а то, что мы упускаем из виду одну маленькую и слишком очевидную деталь и строим не на том основании. То, что я называю искусством быть любимым, можно перевести каквоспитание благодарного сердца, жизнь в подлинном и ежеминутном благодарении. И наши молитвы так немощны, а благочестие такое пресное, так скучна и угрюма наша самодельная аскетика, потому что мы слишком взрослые и давно уже не помним той естественной радости быть, которой непосредственно жив каждый ребёнок.
Из молитв, читаемых священником на Литургии есть три текста, на которых я всегда останавливаюсь с изумлением: молитва на “Святый Боже”, благодарственная молитва “Достойно и праведно” и молитва после “Отче наш”. Во всех этих славословиях есть благодарение Богу за то, что Он вызвал нас из небытия в бытиё. Вот это-то меня всегда и поражало: спасибо за то, что я есть. Те, кто писал эти молитвы, не только назывались, но и были христианами, и я тоже пытался быть христианином, но вчитавшись в эти святые слова, я понял, что отличает меня от их авторов: я не могу благодарить Бога за то, что я жив, и более того, — порой мне казалось, что я не могу Ему простить своего существования, и даже себе простить этого не могу. Это было страшное, но честное признание. Быть живым — невыносимо. Моему “христианско-аскетическому” настроению больше отвечали слова некрасовского героя:
“А кабы к утру умереть —
Так лучше было бы ещё...”
А они радовались своему бытию и от избытка сердца благодарили Бога за это, и я понял, что никогда не стану христианином, если не открою тайну их радости, не научусь быть любимым.
Танцы над дождём
Когда я снова стану маленьким
А мир вокруг — большим и праздничным.
А. Галич
В памяти каждого из нас есть островки счастья, и когда мы говорим о радости жизни, слова бледнеют и начинают выцветать, а образы, врезанные в память, становятся отчётливей. К радости и счастью нас на самом деле влечёт не будущее, а прошлое, уже пережитое. Мы бы и не стремились к счастью, если бы уже не знали его. Надо от чего-то оттолкнуться, чтобы снова научиться принимать жизнь, воскресить её радость.
В июне в Гомеле идут солнечные дожди, обильные и тёплые. Каждый день город умывается новым дождиком и свежеет на глазах. Больше солнца, солнца и дождя! Мне девять лет и рядом мама. Взявшись за руки, мы бежим босиком под дождём и смеёмся. Остывший асфальт, тёплые лужи — это так смешно и весело — нестись над мокрым городом и хохотать. Кто придумал дождь, любил пошутить. Дома и дворцы и церкви стоят мокрые и, едва сдерживая детский смех, сами вот-вот пустятся в пляс. Как будто Бог это дитя, что с озорной улыбкой поливает целый свет из лейки: “Вот вам! не стойте такие серьёзные, а то поглупеете! эй, дворец, ясновельможный пан, ты сейчас просто лопнешь от важности! вот я вымою тебе личико. Ну а вы, куда вы все попрятались? Время танцевать, разве это не весело?”. — Как все красиво поглупели и сбросили оцепенение торжественности. Каштаны глядятся в лужи и подмигивают своему дурашливому отражению. Маленькие ивушки, мои друзья, вы опять перерастёте меня к следующему году, но сегодня я лечу над вами, над тротуарами и каштанами, над моим любимым городом, который весь пропитался запахом хлеба и шоколада, над лучшим в мире городом, где можно танцевать над дождём, потому что жить — хорошо! Грязный и мокрый, ты шлёпаешь по лужам, потому что на свете нет грязи, нет ничего плохого и враждебного. Мир свят и чист, он на секунду вспоминает сам себя, приоткрывает свой подлинный лик. Но это так кратко. Минуты счастья, мгновения жизни.
Как-то я смотрел мультфильм про пингвинёнка. Он родился в племени, где все пели, а у него ничего не получалось, но как только он вылупился из яйца, тут же принялся танцевать.
— Что? Что ты делаешь, — спросила его мама.
— Мамочка! Я радуюсь ножками!
Нет, какое же глупое у меня положение — взяться доказывать право человека на радость. Да! можно радоваться не только умом и душой, но и ножками, и ручками, и ушами, глазами, всем телом можно и нужно радоваться, для того мы и на свете живем. Посмотрите, как очаровательны дети, когда танцуют, какие они миленькие, и даже в самом косолапеньком малыше вы увидите больше изящества, чем в признанной балерине. Поэтому люди, запрещающие танцевать, — кощунствуют, они посягают на замысел Божий о человеке, ведь Господь сотворил нас для радости. Те, кто возбраняет смех, — посягают на человеческое достоинство, потому что этим Божьим даром мы отличаемся от зверей.
Но разве только ханжи и мракобесы препятствуют нам радоваться жизни? Сами мы, слишком взрослые люди, торопимся пережить свою жизнь, воруя у самих себя радость. Наша вечная спешка и суета, а ещё погоня за удовольствиями, — да, как ни странно, именно эти вещи не дают нам радоваться. Бывает так, что только какая-нибудь скорбь или болезнь приводит нас в чувство, и мы с удовольствием вспоминаем, как это здорово — просто сидеть и больше ничего не делать. Как здорово ходить, не куда-то, не зачем-то, а просто — ходить из удовольствия. Бродить по аллеям, по лесу, карабкаться в горы, ступать по меленькому морскому песочку, а потом таки плюхнуться в море и плыть, или лучше — лететь в воде, в невесомости. И даже не это, а завалиться в кровать с книжкой или без, и просто лежать, зная, что впереди ещё ночь и день свободы. В детстве мне страшно нравилось после ванны забраться в чистую-пречистую кровать со свежими простынями и взбитыми подушками. Я всеми силами сдерживался, чтобы не заснуть и подольше покупаться в этой чистоте и свежести.
Ну а спать — как приятно спать. Как говорил один из персонажей “Моби Дика”, “ради только того, чтоб уснуть, и то уж стоило родиться на свет. А ведь правда, младенцы, как родятся, так сразу же и принимаются спать”8. Вытянуться под одеялом, подоткнуться со спины, и вовсе не обязательно, чтобы подушка была такая высокая. Самое чудесное во сне — это и не сам сон, а засыпание, момент блаженства и безопасности, когда ещё не вступил в область сонного безвременья, но уже распрощался с реальностью, и вот — жду — самый чудесный момент. Можно ведь быть и гурманом сна, тем более что со сновидениями не все так просто.
Некоторые поэты и философы полагают, что наша реальность всего лишь сон. Я с ними не согласен, и дело не в том, что можно устроить торжественную дискуссию, разложив на зелёном сукне толстые книги и цитатники. Меня лично убеждает в реальности нашего мира простой факт — во сне нет вкуса. Вы этого не замечали? Иногда, особенно постами, мне снятся застолья и рестораны. Столы убраны такими невероятными блюдами и графинами, гости готовы приступить, и вот уже сели, и взяли белоснежные салфетки, и мне на блюдо положен тот самый кусок торта, что заочно уже подружился со мной, и я его уже давно ем маленькой серебряной ложечкой, — а вкуса нет! Цвет, звук, запах, музыка играет и всем хорошо, а вкуса нет. Так я определяю, что все это мне, любителю тортов, снится, и всё это несерьёзно, хотя и приятно, но вот в реальности-то я наконец поем, потому что это одна из законных радостей человека — хорошо и вкусно поесть.
Про глупости
Жареные гуси мастера пахнуть!
Чехов А. П. “Сирена”
Если бы к вам подошли и решительно спросили: что самое вкусное на свете? Всякий нормальный человек тут же “выпал” бы из реальности и с беззащитной улыбкой, воскрешающей забытые детские черты, стал бы перебирать в памяти всякие вкусные вещи. Перед его мысленным взором величественно и стройно проплывали бы торты, арбузы, мороженое и снова торты; котлеты, шашлыки, чебуреки, невероятные сыры, игристое Asti, мёртвые жареные курицы и прочие сокровища, ввергающие подлинного ценителя в благоговейный трепет и умиление. Боже, как хороши наши лица в эти минуты, как прекрасен счастливый человек! Ведь вспоминая всё самое вкусное, мы воскрешаем в памяти лучшие моменты жизни. Маленькая девочка, только что торжественно съевшая конфету, основательно и серьёзно разглаживает фантик и бережно кладёт в свой кошелёк. Как много “фантиков” в кошельке нашей памяти — от пережитых радостей и приятных мгновений. Мы счастливы: нам есть из чего выбирать, и можно даже поспорить: что вкуснее — телячьи ребрышки по-флорентийски или просто пельмени в сметане? Как говорил герой Мелвилла: “Если ты не можешь извлечь из мира ничего лучшего, извлеки из него по крайней мере хороший обед”9.
И, конечно же, всё это глупости. Но есть ли на свете что-то приятнее разговоров о всяких глупостях: о еде, о правильной кладке каминов, о выращивании сельдерея или об отношении этики и онтологии?
Приятное и полезное — как их соотнести и примирить? Имеет ли христианин право на приятное? Говорила же моя покойная приятельница: всё — тлен! А я люблю мороженое и мне почему-то не стыдно. А если мороженое — тлен и радость моя незаконна? В отеческих текстах говорится только о полезном, и многие повести так и заканчиваются: “и пошёл, получив духовную пользу”. Какая же от мороженого польза? Одно только гортанобесие, или, выражаясь предельно аскетически, — лемаргия. Есть, правда, такой вариант примирения полезного с приятным: приятное может быть полезно, ибо всякое телесное утешение примиряет нас с жизнью. Вот, например, история одного бедного мальчика, рассказанная отцом Глебом Каледой. “Он был в семье последним, пятнадцатым ребёнком. Детство его было тяжёлым. Он мальчиком приходил на берег моря, смотрел на набегающие волны и думал, хорошо бы было умереть, но вспоминая, что на том свете не будет жареной картошки, решал, что ради картошки надо жить. Это было самым вкусным, что ему приходилось есть”10. Вот вам — жареная картошка спасла ребёнка от суицида — приятное оказалось полезным. Только мне кажется, что если Господь создал человека для радости, то нет нужды непременно сводить приятное к полезному, потому что радость от приятных вещей ценна сама по себе и, принимаемая с благодарностью, уже является исполнением замысла Божия о человеке.
Другая моя приятельница. Званый обед. Стол — праздник живота. Потрясённая дама восклицает: “Я уже наелась, но ем, потому что вкусно”. Можно ли есть ради вкуса? Если цель — достичь пользы, а она состоит в насыщении и укреплении телесных сил, — надо остановиться, но если вспомнить, что для радости сотворён человек, то — надо ли так легко нарекать грехом опыт, который нуждается в исправлении и воспитании, но никак не в отсечении?
Основа жизни и мироощущения христианина — благодарность и благоговение. “Тяжело всякой мысли моей, которая не выливается в молитву”, — пишет где-то преподобный Иустин (Попович), так и всякая радость наша тяжела, невыносима, обманчива, если не выливается в благодарное славословие Дарителю радости, Творцу нашему, создавшему человека для радости. А если под видом радости скрывается страсть? Вот для того-то и нужно нам бороться за свою радость, отвоёвывать себя, осваивать искусство правильно радоваться, чтобы научиться радоваться чисто, очищая и оправдывая то, что нам Господь дал на радость. Почему-то считается, что радость должна быть только душевной. Но — разве Христос не воскрес? Разве наши тела не оправданы и не освящены? В Царство Небесное мы должны войти в теле и утешений вечной жизни мы тоже будем приобщаться телом.
Хорош, конечно, монах, со вкусом рассуждающий о жареных курицах. Подождите осуждать, просто дослушайте. Гурман — это не ванны шампанского и не лицом в торт и — до изнеможения. Да, я действительно призываю вас быть гурманами, но это особый вид ценителей, и я знал двоих, кто достиг в этом совершенства.
Наша Леночка умирала от рака. Её выписали из больницы и велели ждать. Я причащал её каждую неделю. Однажды она сказала: “Батюшка, я только сейчас поняла, как же это здорово — пить воду, это очень вкусно”. Она умерла спокойно и красиво. Она любила воду и умела её пить.
Дедушка Петрович очень любит хлеб. Возьмёт буханку, сядет тихонько на кухоньке, режет и ест — помаленьку, по ломтику. И ещё думает. Ест и думает. Чуть-чуть отрежет и снова ест — основательно и красиво. Он очень красиво ест, этот дедушка. Когда-то он был маленьким, и хлеба не было, он сильно голодал, и с тех пор он полюбил хлеб и научился его есть. Дедушка страшно стесняется, если его застанут с хлебом. Он любит хлеб. Хлеб очень вкусный.
Эти люди умели и есть, и пить, — красиво и свято. Человеку на самом деле надо очень мало. Мы давно утратили эту радость простых вещей. Мы не умеем пить воду, как нам распробовать шампанское? Тот, кто не знает, как есть хлеб, способен ли оценить куропатку по-венгерски? Мы торопимся есть и пить, как торопимся жить. Мы не чувствуем вкуса кофе, глотаем его на лету, мы не вкушаем, а перекусываем. Нам нужно острее, ярче, больше, сытнее, чтобы хоть как-то почувствовать, что вкус всё ещё есть, и мы не провалились в сон, мы живы.
Маятник качнулся — монах снова зовёт на воду и хлеб! Нет, я зову остановится и взять на себя духовное упражнение: не просто научиться есть и пить, а — вкушать яства и отведывать питие.
Симпозион
Одним из серьёзных нарушений для хорошего буддиста считается вкушение пищи не в своё время. На языке православной аскетики это называется безвременным ядением. Есть особый устав — как питаться, что вкушать и когда. Почему это необходимо? Отвечают обычно так: аскеза, дисциплина, самоконтроль. Мне думается, всё гораздо глубже, и дело не в том, что буддисты вегетарианцы, а христиане могут вкушать практически всё, — в своё время, конечно. Вкушение пищи — это сакральное действие, и эта интуиция так или иначе сохраняется в любой культуре.
Мне всегда нравились английские романы и детективные фильмы: аристократы выходят к ужину, точнее, к обеду непременно в смокингах. Дамы — в вечерних платьях, блистая бриллиантами и аметистами, герцогини в коронах, графини в колье — просто торжество жизни и вкуса! Стол изящно сервирован, серебро начищено, слуги в белых перчатках разливают вино в бокалы — бутылка обернута белоснежной салфеткой. И молодой Чарингтон, — только из Сорбонны, — клеймит лицемерие аристократии, запивая перепелов Шато-Роз, а в соседней комнате одиноко остывает тело полковника Уилкинса.
Мы вправе осудить весь это ненужный и хлопотный ритуал: зачем такие расходы и переодевание, надо быть проще и естественней. Но только ли в лицемерии дело? Мне кажется, что отношение к обеду как к ритуалу, который требует особой одежды, особого ритма и кодекса поведения — это древняя память о вкушении пищи как о мистерии, и какой-нибудь этнограф, поспешивший согласиться со мной, тут же привёл бы теорию о древнем человеке, заваленном мамонте и роли отца, и я бы с ним не согласился. Поедание пищи само по себе отвратительно. Вы запихиваете в рот куски пищи, кусаете зубами, пережевываете, пробуете языком, совсем не замечая этого, вырабатываете слюну и желудочный сок, обгладываете и глотаете, отдельные личности даже чавкают и постанывают, что уж совсем невыносимо. Но человек способен примириться со всем этим за совместной трапезой, потому что поданная здесь пища, которой я приобщаюсь, которую вкушает мой друг, мой гость, сосед — она становится частью каждого из нас, роднит нас, каким-то образом органически нас соединяет. И поэтому я считаю, что сакрализация вкушения пищи есть предчувствие Евхаристии11, память о том, что однажды произойдёт в Сионской горнице, память о грядущем, которой неосознанно жили все народы и культуры. Приведу в свидетели Рильке:
Яблоко, банан, крыжовник, грушу
пробует ребёнок — и во рту
спорят жизнь и смерть. Я обнаружу
это по лицу его, прочту...
Для того ли вы вдали созрели,
чтобы кануть в нас, лишась имён
Здесь, в родильне слов, одушевлён
станет плод — развоплотившись в теле.
Разве эта яблоком звалась
сладость и была неуязвимой?
Пробудясь во вкусе, вознеслась,
прояснилась, стала двуединой
в радости слиянья — и земной
и небесной, и тобой и мной.
Рильке. “Сонеты к Орфею” I 13
Совместное вкушение пищи, которым сейчас так пренебрегают, очень важно, оно по-настоящему объединяет людей, а потому как таинство единения требует ритуала — и не только в действиях, но и в словах. Англичане, которые умеют есть, например, не едят свиней. Вы знали об этом? И оленей они тоже не едят. Потому что есть особые слова, и если поросёнок по-английски pig, то свинина — pork, олень — deer, а оленина — venison. Поросёнок и олень — это животные, а животных они не едят12. Тоже лицемерие? Может быть. А может, это попытка примириться с тем, что на севере люди не могут обходиться без мясной пищи13.
К трапезе следует относиться как к делу14, и поведение английских аристократов как раз более естественно, чем наши суетливые перекусы на бегу. Кушать нужно красиво и радостно. Святые подвижники, светоносные старцы продолжали поститься всю жизнь не потому, что их тело требовало умерщвления, — оно уже давно было пронизано светом благодати, — они умели полно и естественно получать радость от самых простых и достаточных вещей — от воды и хлеба.
В каждом приличном православном монастыре обязательно поддерживается устав трапезы: братия всегда приходит на обед в рясах и клобуках, хотя кушать в них не очень удобно, перед трапезой и после неё совершается молитва, за трапезой всегда читается какое-нибудь поучение, а переменой блюд обносят только по звонку старшего брата. Часто в монастырях говорят: “трапеза это продолжение богослужения”, а я бы добавил — продолжение Евхаристии, потому что монастырь как община осуществляет и закрепляет себя не только в литургии, но и в совместном вкушении пищи, где каждый брат органически прирастает брату в единстве трапезы. И может быть, поэтому монахам всегда возбранялось вкушать пищу с женщиной, потому что трапеза слишком интимная вещь, она как-то слишком глубоко и существенно единит людей, и единство это осуществляется где-то в самых неприступных глубинах.
Для античных авторов сакральность совместной трапезы была самоочевидным фактом, поэтому так много дошло до нас Симпозионов, то есть описаний пиров, на которых друзья предавались не только возлияниям, но и философским беседам. Это даже стало отдельным жанром античной литературы. Самые знаменитые Пиры были написаны Платоном, Плутархом, Макробием, Петронием и даже Юлиан Отступник сочинил свой собственный Пир. Это были дружеские застолья, и только мужчины имели право присутствовать на них15, потому что всерьёз считалось, что настоящая дружба возможна только между мужчинами, а в одном из диалогов Плутарха мудрецы глубоко и всерьёз обсуждали вопрос: может ли муж дружить со своей женой?
Слияние сердец
Куда больше женщин,
на которых можно жениться,
чем мужчин, с которыми можно дружить.
Генрих Бёлль16
Меня всегда удивляло, что в святоотеческой литературе нет практически ни одного трактата о дружбе. Правда, есть некоторые чудесные откровения о дружбе в отдельных текстах. Например, блаженный Августин в своей “Исповеди” рассказывает о друге, которого любил всем сердцем; сохранились чудесные письма святителя Григория Богослова к самому близкому его другу святителю Василию Великому; в “Слове о священстве” описан опыт чудесной дружбы между святителем Иоанном Златоустом и епископом Василием. Но почему Отцами не написано ни одного серьёзного текста по этому довольно сложному и нужному вопросу? У меня есть предположение, и начну я издалека.
Первые христианские миссионеры Латинской Америки изобрели оригинальный и весьма эффективный способ проповеди. Когда монах-миссионер приходил в какую-нибудь индейскую деревушку, где никогда не звучало Слово Божие, он не воздевал руки в экстазе, не осенял крестом испуганных язычников и не кропил повсюду святой водой, изгоняя бесов. То, что он делал, было очень необычно: монах садился на камешек, доставал флейту или скрипку и безо всяких слов просто начинал играть17. Там, где проповедовали музыкой, язычники становились христианами не формально, а всем сердцем, они действительно меняли жизнь и пламенели верой. И дело было не в том, что музыка делала привлекательней фигуру миссионера или вносила какой-то развлекательный элемент в проповедь. Дело в другом. Чтобы возвышенное евангельское слово дошло до души дикаря, ему нужно было приобщиться к культуре, дать душе пережить опыт изящных чувств и воспитанных эмоций, потому что только оттолкнувшись от этой ступени душевного опыта, человек может без искажений принять и правильно усвоить духовные истины Евангелия.
Мы хорошо знаем, что фундамент Евангелия — это откровение о Боге-Человеколюбце, о Боге-Любви, единственная заповедь Которого — пребывать в любви. Всё очень просто. Но почему тогда столько правил в Церкви, столько законоположений в монастырской жизни. Для людей воспитанных есть вещи самоочевидные, а о них не говорят и не пишут. Люди несдержанные и невоспитанные часто никак не могут понять, о чём идёт речь, когда говорится о любви, и изобретают свои собственные объяснения. Мы нуждаемся в культуре и воспитании, и никуда от этого не деться.
Наши христианские писатели, особенно первых веков, были очень хорошо образованы и воспитаны; в большинстве своём они получали добротное классическое образование и с детства им прививалась эллинская культура. Среди них были люди, позже критиковавшие эллинство, но даже сама их критика осуществлялась средствами критикуемой культуры. Писатели-богословы не стеснялись цитировать Гомера, Гесиода, Платона и Аристотеля, а аскетические авторы часто ссылались на Эпиктета и других стоиков, не отяжеляя слух читателя ссылкой на источники. Почему они так легко относились к текстам и авторам, от имён которых многие наши собратия впадают в благочестивое негодование? Священномученик Иустин Философ обстоятельно доказывал своим гонителям, что поскольку весь род человеческий причастен Слову, а Христос и есть Слово, то все, что было когда-либо сказано истинного — наше (2-я апология 13)18. И все трактаты по логике, этике, математике, вся богатая литература — всё это наше. А кроме текстов было ещё и воспитание, и наши святые писатели не касались тех с их точки зрения самоочевидных вещей, о которых должен знать каждый воспитанный человек. У Святителей вы не найдёте текстов о том, что следует вовремя отвечать на письма, быть предупредительным и вежливым, не хамить, учиться чуткости сердца — а ведь это важно, не так ли? Христианские авторы не писали о том, как знакомиться с девушкой, о чём говорить с её матерью, как ладить со стариками; что такое быть честным, но успешным политиком, как вести себя с подчинёнными, чтобы они любили тебя, но не садились на шею, что значит быть нежным и как правильно вести себя в гостях. Это вопросы воспитания, вопросы универсальные, и не может быть православного ответа на них. Хотя если вы всерьёз примете тезис святого Иустина и вспомните тертуллиановское “душа по природе христианка”, вы согласитесь, что хорошее, пусть и светское, воспитание само по себе и есть христианское.
Тема дружбы была общим местом эллинской литературы. Ей отдавали дань поэты и драматурги, но вдумчиво и обстоятельно писали о ней именно философы. Дружба много значила в жизни пифагорейского философского “монастыря”, Платон посвятил этой теме несколько диалогов, восьмая и девятая книги “Никомаховой этики” Аристотеля целиком отданы этой проблеме; трактат Цицерона “Леллий, или О дружбе” и сегодня читается с удовольствием; Сенека в “Нравственных письмах Луциллию” неоднократно обращался к этому вопросу. Эпикур тему дружбы поставил в центр своей жизнелюбивой философии и утверждал, что это самая большая радость и наслаждение, которое встречается нам в жизни. Позже Петраркой были написаны семь диалогов о дружбе и, пожалуй, самый читаемый текст на эту тему — это трактат Монтеня о дружбе, но и Петрарка, и Монтень находились под сильным влиянием Аристотеля и в особенности Цицерона. Совсем не случайно я перечисляю здесь этих авторов: у меня нет возможности пространно рассуждать о дружбе, и я коснусь лишь некоторых граней этой проблемы, но те, кто интересуется, — начните с классиков.
Почему для нас так важна тема дружбы? Ведь мы — христиане и взыскуем любви, а значит, идём дальше всех этих благородных язычников и просветителей? Да в том-то и дело, что — не идём. Не только достичь любви, но и понять, что такое любить и быть любимым, невозможно, не научившись дружить. И, кроме того, соглашусь с Эпикуром, дружба — одна из самых больших радостей, дарованных нам Создателем, и ради этой радости уже стоило родиться на свет.
Платон полагал дружбу выше любви. Удивительно, как в этом с ним согласен псалмопевец Давид, который, оплакивая смерть своего друга, пел: скорблю о тебе, брат мой Ионафан; ты был очень дорог для меня; любовь твоя была для меня превыше любви женской (2 Цар 1:26)19. Однако дружба не только выше любви, но это ещё и более сложный опыт, требующий определённых усилий и, если угодно, духовного упражнения. Помню, как поразили меня слова Василия Ливанова, нашего великого Шерлока Холмса, который в одном из интервью, посвящённом актеру Соломину (доктор Ватсон), сказал: “в работе с Соломиным очень помогла наша личная дружба. Потому что можно сыграть любовь, никогда не любив, но сыграть дружбу без опыта дружбы невозможно”.
Мыслители, писавшие о дружбе, непременно отличали подлинную дружбу от дружбы поверхностной, которую и дружбой-то назвать нельзя. Но и порицать эти отношения, сводить к лицемерию или вранью — неверно. Назовём это искусством ладить с людьми, которому следует учиться и учить с детства. Дружба же подлинная — иная. Монтень, описывая свой опыт дружбы, говорил, что это прежде всего единство душ, когда в двух телах одна душа: души друзей «смешиваются и сливаются в нечто до такой степени единое, что скреплявшие их когда-то швы стираются начисто и они сами больше не в состоянии отыскать их следы. Если бы у меня настойчиво требовали ответа, почему я любил моего друга, я чувствую, что не мог бы выразить этого иначе, чем сказав: “Потому что это был он, и потому что это был я” <...> Мы искали друг друга прежде, чем свиделись»20. Святитель Григорий Богослов, вспоминая дружбу с будущим святителем Василием Великим, называл это опытом слияния сердец21. Поэтому утрата друга всегда переживается как смерть частицы самого себя. Когда скончалась Валерия Срезневская, верная подруга Ахматовой, Анна Андреевна написала:
И мнится, что души отъяли половину,
Ту, что была тобой, — в ней знала я причину
Чего-то главного. И всё забыла вдруг...
Но как достигается или как настигает такая дружба? Думаю, что она естественно вырастает из искусства ладить с людьми. Цицерон вслед за Аристотелем полагал, что к дружбе способен только добродетельный муж, vir bonus. Но мы должны помнить, что речь идёт не о христианских добродетелях, которые есть дары Духа. Цицерон имел в виду очень простые вещи: рассудительность, честность, мужество, терпение, воздержание. Это качества просто хорошо воспитанного человека. Как же “высекается” огонь дружбы? Аристотель полагал, что “именно [наслаждение общением], кажется, главный признак дружбы и создает её в первую очередь”22. Чуть ранее Стагирит цитирует неизвестного автора: “многие дружбы расторгла нехватка беседы”23. Вот здесь поподробнее.
Беседа в аскетических текстах всегда рассматривается только с точки зрения полезности, но радость от общения даже малоинформативного или далёкого от какой бы то ни было дидактики ведь тоже полезна. Например, мы можем говорить о политике или о способах консервирования огурцов — мы можем забыть всё это через день или через час — содержание беседы вторично, важна сама беседа как событие — со-бытие вместе с чудесным человеком, твоим другом, твоим ближним. Вся радость дружбы как раз и заключена в общении. В конце концов, это может быть даже не беседа.
У Иммануила Канта был друг — и совсем не философ, а простой коммерсант. Каждый вечер после лекций Кант приходил домой к своему другу, заходил в комнату с камином, садился в кресло и засыпал. Друг к его приходу уже спал в соседнем кресле. Где-то через час звонили к обеду: друзья просыпались и шли к столу. Чувство доверия и безопасности — это тоже признаки дружбы, когда ты можешь просто молчать или даже дремать в присутствии друга. И как здесь не упомянуть мудрого Эпикура, писавшего: “Каждый должен стремиться к созданию такой атмосферы, в которой расцветают сердца. Главное — это стремление друг к другу, взаимное доверие, когда один отдыхает при виде другого, что больше всего способствует счастью”24.
Ещё раз повторюсь: такая дружба вырастает из искусства ладить с людьми, то есть развитой способности к общению: как завязать знакомство, быть приветливым, предупредительным, чутким, внимательным. Очень часто весьма хорошие и добродетельные современные люди не могут или боятся общаться с людьми, дичатся, сторонятся, не умеют выказывать совершенно естественные знаки внимания. Аристотель настаивал: нельзя скрывать своего доброго расположения к другу25. Если вам нравится человек, зачем делать вид, что он вам безразличен, дичиться, не отвечать на звонки? И если бы это так и оставалось. Приятно быть несчастным и непонятым, куда легче, чем постараться чётко и внятно объяснить другому, чего же ты хочешь на самом деле, и потрудиться внимательно выслушать и правильно понять собеседника. Нет, — я не понят, не оценён, не принят и умру в одиночестве со своей неразделённой болью, “отвернусь к стенке”, и на могиле моей напишут: “Умер непонятый современниками”. И грустно, и смешно.
Для себя я решил: настоящего христианина легко определить по способности принимать подарки. Если ты не умеешь принимать подарки — “ходи в первый класс”.
Один мой приятель как-то очень тяжело заболел. Всякий раз при встрече он со слезами на глазах рассказывал мне, как не хочет обременять свою жену, доставлять ей хлопоты, делать её несчастной. У парня было чуткое сердце. И он совершенно прав. По-советски, не по-христиански. Потому что христианство — это искусство быть любимым, умение принимать подарки. Приснопамятный Аристотель высшую форму проявления дружбы видел в том, что друг подаёт другу возможность что-то сделать для него и тем приобщиться к совершенной добродетели. Мишель Монтень приводит в своём трактате пример такой дружбы: коринфянин Эвдамин, у которого были два друга, Хариксен и Аретей, оставил им следующее завещание: “Завещаю Аретею кормить мою мать и поддерживать её старость, Хариксену же выдать замуж мою дочь и дать ей самое богатое приданое”. Монтень комментирует: “Эвдамин, поручая своим друзьям позаботиться о его нуждах, сделал это из любви и расположения к ним. Он оставил их наследниками своих щедрот, заключавшихся в том, что именно им дал он возможность сделать ему благо”26. Для нас это что-то уж совсем необычное27, ведь мы приучены наоборот всё отдавать, не требуя взамен, холодно и агрессивно отказываясь от подарков. Есть, правда, и личности, которые свою наглость выдают за эвдаминову добродетель, но не о них речь.
У Достоевского очень живо и ярко выходили герои с этой удивительно русской чертой — неспособностью быть любимым. Самый известный пример — Катерина Ивановна, жена Мармеладова, из “Преступления и наказания”. Человек жил в жуткой нищете, грязи, в окружении каких-то угрюмых людей, и при этом отличался какой-то клинической неспособностью принять помощь от другого. Из-за гордыни ли или из-за отсутствия способности быть любимой. А, может, это одно и то же? Или другое: Катерина Ивановна боялась зависимости от благодетеля?
Помнится, это лермонтовский Печорин говорил, что в дружбе всегда один раб другого, но что Печорин знал в дружбе? Видимо, кое-что всё-таки знал. В одном из романов Бёлля есть такая гениальная фраза: «При виде нового человека я всегда спрашиваю себя, хотел бы я оказаться в его власти, и знаешь, на свете совсем немного людей, про которых я мог бы сказать: “Да, хотел бы”»28. Если вы подлинные друзья, то вам нечего стыдиться рабствовать друг другу, да это уже и не рабство, а то удивительное согласие душ, которое возможно только при слиянии сердец.
В Евангелии от Иоанна Господь говорит Своим ученикам: Вы друзья Мои, если исполняете то, что Я заповедую Вам(см. Ин 15:14), и мы спрашиваем себя: может ли друг такое сказать? Может ли он ставить нам условия: соблюдите заповеди, а уж потом... Да и у греков была известная пословица: ставший богом перестаёт быть другом. Дружба требует равенства, а здесь говорится о рабстве, ведь мы с Богом неравны. Но в том-то и чудо Евангелия, что Господь призывает нас быть равными Ему — стать богами по благодати через жизнь по заповедям, через стяжание благодати Духа Святого, и самые сильные слова о дружбе сказал именно наш Друг, наш Брат, наш Господь: Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих (Ин 15:13). Больше этого сказать нечего и некому. Но как взойти в эту меру дружбы? Это просто. Научиться ладить с людьми, потом освоить таинство дружбы — научиться любить и быть любимым, — и Господь Сам придёт к нам и обитель у нас сотворит (ср. Ин 14:23).
Итак, будьте дружелюбны (Кол 3:15).
Hic sunt leones
Заповеди Евангелия просты и понятны. Святые старцы и старицы прекрасны, и так естественно тянуться к их иконам — как удержаться, чтобы не расцеловать настоящую красоту? Но что-то с нами не так. Не получается быть христианином, всё идёт наперекосяк, и какие-то мелкие бесы изнутри растлевают и расстраивают и нашу дружбу, и наши труды, и отравляют радость жизни. Откуда этот копошащийся хаос внутри и враждебность космоса снаружи, почему нас одолевает порой такая глухая пустота, что нет никаких сил жить?
Но почему мы клонимся без сил?
Нам кажется, что кто-то нас забыл,
Нам страшен ужас древнего соблазна...
Гумилёв. “Потомки Каина”
“На географических картах XV века в углу изображали безымянное пространство, — писал умный Виктор Гюго, — на котором были начертаны три слова: hic sunt leones29. Такие же неисследованные области есть и в душе человека. Где-то внутри нас волнуются и бурлят страсти, и об этом тёмном уголке нашей души можно тоже сказать: hic sunt leones”30.
Что-то страшное произошло и с нами, и с миром, когда первый человек отвернулся от Бога, когда сам захотел стать богом, ведающим добро и зло: я устанавливаю, что есть добро, и что считать злом, есть только я и моё. Но ведь добро — это одно из имён жизни; нет другой жизни, кроме данной, и нет иного добра, а человек — совсем не источник жизни. Адам стал чужим Богу и что-то случилось с этим миром и с самим человеком. Мы начали умирать и до сих пор не знаем, как далеко проникла эта порча, и где, в каких глубинах человека и в каких безднах космоса отзывается каждый наш грех.
Что взорвалось в космосе, какие скрепы лопнули, когда Каин убил Авеля, перворождённый из людей — убийца-вегетарианец? И как, и чем можно было убить человека, на лице которого ещё не остыла печать Эдема? Мир трещит по швам и на его теле выступают болезни человека. Жизнь вымывается из нас грехом, и не только из нас, но из всего тела человека, из космоса, который есть часть нашего тела. Болезни, страдания невинных, муки едва родившихся. О какой радости жизни можно говорить в нашем больном мире, где страдают дети, где мы начинаем умирать, едва родившись? Не остаётся ли нам только плакать об этой порче, что разъедает мир, и ждать окончательной его погибели?
Но в Писании немало текстов, пронизанных едва сдерживаемой радостью. Например, Послание к Филиппийцам, написанное Апостолом “из уз”, то есть из тюрьмы, названо библеистами “посланием радости”, о чём говорит даже такая статистика: слово “радость” и производные употребляются в этом довольно кратком послании 16 раз. Однако в том же Писании и в творениях Отцов, особенно столпов монашества, немало мест весьма печальных и пронизанных нескрываемым пессимизмом относительно человека и мира, в котором он живёт. Что касается пессимизма, то об этом очень хорошо высказался наш замечательный патролог А. Сидоров: «Понятие “пессимизм”, как и определение “пессимистический”, совершенно неприменимы к православному миросозерцанию и мироощущению, ибо Православие как целостное мировоззрение глубоко оптимистично. Взгляд преподобного Максима, а также и всех отцов Церкви на падшее состояние человечества, естественно, был скорбным, но эта “скорбность” являлась лишь частью всецелой “радостности”, которой и пронизано Православие как религия веры, любви и надежды. Ведь Господом сказано: В мире будете иметь скорбь; но мужайтесь: Я победил мир (Ин 16:33) и вы печальны будете, но печаль ваша в радость будет (Ин 16:20)»31. Не нужно путать этот мудрый скорбный взгляд подлинных святых с агрессивной угрюмостью и человеконенавистничеством, которые многими принимаются за образец аскезы. Такая аскеза сама несёт на себе следы первородной порчи и глубоко враждебна Евангелию.
Позволю себе длинную цитату из Герцена: “Христианское плотоумерщвление столь же противно природе, как умерщвление других по приказу; надо было глубоко развратить, сбить с толку все простейшие понятия, всё то, что называется совестью, чтобы уверить людей, что убийство может быть священной обязаностию, — без вражды, без сознания причины, против своего убеждения. Всё это держится на одной и той же основе, на той же краеугольной ошибке, которая стоила людям стольких слёз и столько крови, — всё это идёт от презрения земли и временного, от поклонения небу и вечному, от неуважения лиц и поклонения государству, от всех этих сентенций, вроде salus populi suprema lex, pereat mundus et fiat justitia32, от которых страшно пахнет жжённым телом, кровью, инквизицией, пыткой и вообще торжеством порядка”33. Разве мы с вами не встречаем даже сегодня образцы такой аскезы, такого антихристианского отношения к миру и человеку? Не тело должно нам умерщвлять, но страсти; не ставить аскетические опыты на ближних, но учиться их любить и самим не стесняться своей нежности.
Да, мы должны оплакивать свой грех, преодолевать глубоко въевшуюся в нас порчу. Но это не вся правда. “Бог не требует, братия, и не желает, чтобы человек плакал от болезни сердца, — пишет великий Лествичник, — но чтобы от любви к Нему радовался душевнымсмехом. Отыми грех, и излишни будут болезненные слёзы чувственным очам; ибо когда нет раны, то не нужен и пластырь. У Адама прежде преступления не было слёз, как не будет их и по воскресении, когда грех упразднится; ибо тогда отбежит болезнь, печаль и воздыхание (Ис 35:10) (Лествица 7:45)”34.
Ведь мы с вами так хорошо знаем, что Христос воскрес! И смерть нами уже не обладает! А Пасха это радость тела, радость восстановления. А мы — царственное священство, святой народ (1 Пет 2:9), короли и королевы! Но мы так боимся этого дара Пасхи! Посмотрите на нас — разве это короли и королевы? Это просто стайка испуганных детишек.
Доверие к бытию
Лишь тот, кто глубины помыслил,
полюбит живое.
Гёльдерлин. “Сократ и Алкивиад”
Пасху я любил всегда. В детстве из-за булок, конечно, и ещё из-за всяких праздничных хлопот. Запах корицы и хрена, и где-то складывалось столько всяких вкусностей, но нас тянуло к тесту, тесто нас завораживало. Как мама ни следила за нами, мы с братьями всегда урывали возможность слопать немного этой ещё безликой, но такой привлекательной массы. А что всегда удивляло? — Почему, когда в доме готовят пироги, никому нельзя ругаться? Почему хозяйка должна надеть всё чистое и тщательно вымыться? Это было похоже на священнодействие, и сейчас я так и думаю: женщина может и должна при этом священнодействовать в той мере, в которой каждый человек — священник. В белорусских сёлах, когда женщина ранней весной впервые выходит на огород, в этот день тоже нельзя ругаться, следует вести себя прилично и одеться во всё чистое, потому что под руками у человека, такого скромного и простого труженика, вырастает новая жизнь, с доверием бросается ему в руки. И священник-огородник не только соблюдает ритуальную чистоту, совершая таинство новой жизни, он ещё и молится. В Белоруссии, выходя на землю, принято читать или петь:
Урадзi, Божа, на ўсе долю: ежу, клажу, кражу i прадажу 35.
Чтобы всем хватило, — ведь людям надо кушать, — и если ты любишь землю, она доверится твоим рукам. Я помню старых людей, которые читали по рукам, как мы читаем по лицам. Руки много могут сказать о человеке. У нас на паперти сидел слепой старец, который всегда причитал: “Да благословит Господь ваши ручки трудовые”. Никогда не слышал более изысканного гимна рукам! Они же такие смешные — наши руки. Посмотрите на них: пять пальцев — это очень смешно. И очень красиво. Как ни очаровательна, как ни совершенна лапка котёнка, руки труженика, руки матери — это чудо. А какие удивительные ручки у малышей! У этих волшебных существ хорошо видно, что руки — это продолжение глаз, а глаза — это корни рук. Малыши очень трогательны. Иногда мне кажется, что они не отличают зрение от осязания, и может, в первые месяцы своей жизни ребёнок и являет то единство чувств, что утрачено взрослыми. Им нужно потрогать, коснуться, ткнуть. У них ещё долго живёт тот непорицаемый эгоизм, который граничит со святостью: мир действительно сотворён ради меня, — и эта Луна светит для меня, и этот дождик действительно идёт ради меня, и моя мама на самом деле — самая красивая, а папа — самый сильный на свете.
Глаза — корни рук. Человеку очень важно видеть, смотреть, таращиться. Он глазастое существо по преимуществу. Словесное существо? Да. Но точнее будет — словесно-зрячее, глазообразное. Херувимы “исполнены очей” — полноглазые ангелы, вся их сущность в зрении, “ангел весь око”, — писал кто-то из святых. Сатана — это ослепший херувим. Дети — глаза на ножках. Они жадно впиваются глазами в этот мир, впитывают все его цвета и краски. Академик Павлов говорил, что физический труд доставляет мышечную радость, и это понятно, но — как же радость зрения? Очевидная радость? В платоновском “Тимее” есть целый гимн глазам, настоящий благодарственный гимн: “глаза открыли нам число, дали понятие о времени и побудили исследовать природу Вселенной, а из этого возникло то, что называется философией и лучше чего не было и не будет подарка смертному роду от богов. Я утверждаю, что именно в этом высшая польза очей” (Тимей 47a-b)36. Только зрячий может стать философом. Или: только философ воистину зряч. Говорят, Дега под конец жизни ослеп и принялся лепить: скульптура — ремесло слепого, только я бы уточнил — ослепшего. Великий богослов Дидим слепец тоже был из ослепших, но был богат духовным зрением.
В писаниях святителя Иоанна Богослова буквально бросается в глаза это постоянное совпадение глаголов видеть, любить и познавать. Мы найдём это совпадение и в текстах Платона. Но даже и в обычной нашей речи мы можем отследить таинственное тождество любви и зрения. Вы говорите: Ненаглядная моя — я так люблю этого человека, что никак не могу насмотреться на него. И наоборот, предел ненависти: Глаза б мои тебя не видели. Глагол ненавидеть напрямую связан со зрением: «Ненавидеть, — пишет Фасмер, — образовано с отрицанием от навидети “охотно смотреть, навещать”»37. Латинское invidia ?ненависть’ происходит от video ?я вижу’. Совершенно не случайно, что христиане сохранили античное наименование ада: греческий ¢?δης, — слово, образованное от α-ειδος ?без-образность, без-видность’. Персей, помнится, оставался незримым благодаря шапке Аида. Ад — утрата видности, неспособность полюбить и невыносимость быть любимым. Может, потому мы и называем ад тьмой кромешной: без света нет и зрения, невозможно видеть-любить-познавать, и ещё на земле нас настигают минуты такой жуткой незрячести: Поразит тебя Господь сумасшествием, слепотою и оцепенением сердца (Втор 28:28). Но слепота и ненависть — это осознанный и свободный выбор, законный плод неблагодарного и нелюбящего сердца, неспособного разглядеть красоту и полюбить её. Но что же сделаешь с этой красотой, когда она повсюду: в людях, в деревьях, в зверях и во мне самом. Да, — мы не должны стесняться своей красоты, уж с этим ничего не поделаешь, такими нас создал любящий Господь. И как чудесны Его творения: я тянусь к красоте этого мир, а мир видит и чувствует мою красоту:
Как же, сердце, ты
Радовалось траве,
Как та навстречу тебе
Тянула руки свои.
Гёльдерлин
У Ивана Бунина есть хорошо всем известное стихотворение. Оно короткое, и я приведу его полностью.
И цветы, и шмели, и трава, и колосья,
И лазурь, и полуденный зной...
Срок настанет — Господь сына блудного спросит:
“Был ли счастлив ты в жизни земной?”
И забуду я всё — вспомню только вот эти
Полевые пути меж колосьев и трав —
И от сладостных слёз не успею ответить,
К милосердным Коленам припав.
Мне хочется верить, что Господь, встречая меня, блудного сына, скажет вот так же: “Был ли счастлив ты в жизни земной?”, или по-другому: “Тебе понравилось? Ведь правда — жить — это так здорово!”.
— Что же из этого следует?
— Следует — жить!
Шить сарафаны и лёгкие платья из ситца.
— Вы полагаете, всё это будет носиться?
— Я полагаю, что всё это следует шить!
http://omiliya.org
ПРИМЕЧАНИЯ:
- Камю А. Миф о Сизифе. Эссе об абсурде // Сумерки богов. М., 1989. С. 226.
- Хайдеггер М. Беседа с Хайдеггером // Разговор на просёлочной дороге. М., 1991. С. 147.
- Спиноза Б. Этика, доказанная в геометрическом порядке // Избранное. Минск, 1999. С. 545.
- Платон. Собрание сочинений в четырёх томах. Т. 2. М., 1993. С. 14.
- Камю А. Миф о Сизифе. Эссе об абсурде. С. 223.
- Чехов А. П. Палата № 6 // Собрание сочинений в двенадцати томах. Т. 7. М., 1962. С. 142.
- Сюффрей А.—Д. Портрет о. Андре — Жана Фестюжьера (1898—1982) // Фестюжьер А.—Ж. Личная религия греков. СПб., 2000. С. 223.
- Мелвилл Г. Моби Дик, или Белый Кит. М., 2005. С. 190.
- Мелвилл Г. Моби Дик, или Белый Кит. C. 536.
- Протоиерей Глеб Каледа. Записки рядового // Альфа и Омега. 2002. № 1(31). С. 300—301.
- В застольных обычаях некоторых народов, достаточно давно принявших христианство, прослеживается связь трапезы с Евхаристией: в строго чередующихся тостах фиксированного содержания можно обнаружить млитвенную основу (так наз. тост-моление). Можно предположить, что эта трапеза произошла от агапы, трапезы любви, по сути завершавшей общинное богослужение древней Церкви. Сказанное вовсе не опровергает мысли автора. — Ред
- Собственно, мы тоже едим не корову, а говядину. — Ред
- Сейчас модно быть вегетарианцем, и я думаю, что нам всем надо бы питаться только растительной пищей, но наш мир так сильно испорчен, что мы вынуждены из двух зол выбирать меньшее. Есть законы нашего падшего мира, против которых трудно идти. Если вы вегетарианец и боретесь против убийства животных, как вы поступите со своей кошкой: будете постоянно кормить её молоком или купите корм, соизволяя тем самым убийству животных, из мяса которых этот корм сделан? Даже если вы не будете держать дома кошку, этот зверь всё равно есть, и он совсем не вегетарианец. Интересно, если голодная кошка будет умирать на ваших глазах, вы тоже не отрежете ей колбасы?
- Предчувствую возражение: в Патерике один из пустынников говорит нечто обратное: он относится к вкушению пищи не как к делу, а как к поделию, и ест всегда на ходу. Но то, что может быть нормально для пустынника, живущего в одиночестве, совершенно неуместно и глупо для всякого, кто живёт в общине или в обществе.
- Настоящим “безумием для эллинов” стало издание “Пира десяти дев”, написанного святителем Мефодием Патарским: пируют и ведут богословские беседы девицы, что уж никак не укладывалось в рамки античной этики и этикета.
- Бёлль Г. Дом без хозяина // Самовольная отлучка. Минск, 1989. С. 72.
- Любопытствующему читателю настоятельно рекомендую посмотреть фильм “Миссия” (1986) с Робертом Де Ниро и Джереми Айронсом в главных ролях. Этот фильм рассказывает о судьбе одной такой миссии в Латинской Америки.
- Иустин Философ и Мученик. Творения. М., 1995. С. 119.
- Предчувствую, что среди читателей найдутся люди, которые, прочитав этот отрывок, ехидно усмехнутся и заговорят про однополую любовь. Простой факт: и Аристотель, и Цицерон, и Монтень, и многие другие считали, что настоящая дружба — редкая птица в нашем мире, согласно Монтеню, раз в триста лет случается настоящая дружба, и если сравнить частоту появления дружбы с всевозрастающим числом адептов партии Содома, станет понятно, что ничего общего это печальное явление с дружбой не имеет. Более подробно этот тезис доказывается в текстах Платона.
- Монтень М. Опыты. Т. 1. М., 1979. С. 176.<
- Святитель Григорий Богослов. Собрание творений. Т. 2. ТСЛ, 1994. С. 411.
- Аристотель. Никомахова этика // Сочинения в четырёх томах. М., 1983. С. 227.
- Там же. С. 226.
- Цит. по: Адо П. Духовные упражнения и античная философия. М.—СПб., 2005. С.33.
- Аристотель. Никомахова этика. С. 221.
- Монтень М. Опыты. Т. 1. С. 179.
- А ведь могли бы помнить, как Христос вознаградил Своего любимого ученика: поручил ему Свою Мать (Ин 19:26-27). — Ред
- Бёлль Г. Бильярд в половине десятого. М., 2010. С. 191.
- Здесь обитают львы (лат.).
- Гюго В. Человек, который смеется // Собрание сочинений в 10-ти тт. Т. 9. М., 1972. С. 239—240.
- Сидоров А. Преподобный Максим Исповедник в дискуссиях Востока и Запада // Альфа и Омега. 2005. № 2(43). С. 22.
- Спасение людей — высший закон, пусть погибнет мир, но да свершится правосудие (лат.).
- Герцен А. И. С того берега. Собрание сочинений. М., 1954—1964. Т. 6. С. 139—140.
- Прп. Иоанн Синайский. Лествица. Издание монастыря Параклита. Оропос Аттикис. Греция, 1990. С. 96.
- По-русски можно было бы перевести так: “Да уродится, Боже, всякому доля своя: нам поесть, вору украсть, на зиму оставить, на рынок отправить”.
- Платон. Собрание сочинений в четырёх томах. Т. 3. М., 1994. С. 449—450.
- Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. Т. 3. М., 2003. С. 63.
- Фрагмент песни “Диалог у новогодней ёлки”. Слова Ю. Левитанского, музыка Э. Колмановского.